Живите сегодняшним днем, сестры. Настоящим. Стройте свой дом крепким и безопасным, любите своих детей, умрите за них, если понадобится, и постарайтесь любить своих матерей, которые всего этого не сделали.
«Я погладила ее по спине, как ты велела», — сказала Изабел.
Но мать не слушала. Она пыталась передать по телефону вызов «воздушному» доктору. «Ума не приложу, как мне быть», — сказала она.
В то время в их краях уже начался сезон дождей, вертолет, на котором доктор возвращался от них на базу, разбился при посадке, и доктор сильно расшибся. Все утопало в желтой грязи, стоило выйти под дождь, начинала болеть голова. По той ли, по другой причине, о новом ушибе Изабел позабыли, и в результате подбородок ее стал слишком выдаваться вперед, губы расплющились, а зубы отклонились назад и находили друг на друга. Доктор лишился глаза и ноги. Изабел чувствовала себя за это в ответе, но впоследствии, все пережив, больше ничего не боялась. Неправильность подбородка и рта лишь подчеркивала прелесть остальных черт невозмутимо-приветливого лица с широко расставленными глазами, придавая ей своеобразное очарование в юности и интеллигентный вид, когда она стала старше. В душах парней, живущих в их необжитых краях и скитающихся по глухим уголкам этой непривлекательной в основном страны, Изабел вызывала равно любовь и вожделение.
Кап-кап, тук-тук. В Лондоне дождь неопасен и ласков для всех, всех, я хочу сказать, кроме слепых. Он бьет по твердой мостовой и уходит в водостоки. Он не топит всю страну в желтой грязи.
«Эта жизнь не для тебя, — сказала мать, когда Изабел исполнилось пятнадцать. — Не для таких, как ты. Лучше выбирайся отсюда».
«Уедем вместе», — сказала Изабел. У них обеих не было никого, кроме друг друга.
«А лошади? — сказала мать. — Я не могу их бросить».
Ну конечно же, Изабел на секунду забыла про лошадей. И не очень-то они были хорошие. Косматые, линяющие, больные животины, жертвы оводов и мух, они не выполняли никакой работы, лишь стояли с укоризненным видом на лугу и поглощали в виде тюков корма и счетов ветеринара то, что еще осталось от наследства Изабел. Летом они поднимали ногами пыль, зимой месили грязь.
Мать Изабел любила их, и Изабел тоже старалась ради матери их полюбить, но не могла. Чато и Уиндус, Хейнеман и Варбург, Герберт и Дженкинс (Секер сдох от укуса змеи), все до единого — напоминания о прошлом матери. Мать Изабел выросла в литературных кругах Лондона и была перенесена оттуда вглубь Австралии отцом Изабел — фермером-австралийцем. Вскоре он ушел воевать и так и не вернулся обратно, предпочтя жизнь в травяной хижине с малазийской девушкой жизни с матерью Изабел и ею самой. Мать и дочь остались там, где были, продавая постепенно землю, одну тысячу акров за другой, пока не потеряли все, кроме кишащего жучком деревянного дома с шатким балконом, шести лошадей на единственном лугу, змей, спящих в сухом, как порох, подлеске, и друг друга.
А куда было ехать матери, унылой, желтой, вросшей в пейзаж? Что еще оставалось? Пригвожденной к месту войной, мировыми событиями, собственной упрямой натурой и младенцем. Когда шли дожди, ей казалось, — будто небо по ее просьбе мстит за нее, ну, а если и ее утопит, быть по сему. Кап-кап, тук-тук.
«Но что ты будешь делать, когда я уеду?» — спросила Изабел.
«То, что всегда делаю, — ответила мать. — Смотреть на горизонт».
Изабел подумала, что мать будет рада, когда она уедет, что мать уже выполнила перед ней свой долг. И, хотя она, Изабел, чувствует неразрывную близость с матерью, мать не чувствует того же по отношению к ней. Ребенок для матери явление случайное. Эпизод. Мать для ребенка — основа жизни. Горький урок для ребенка.
Тело Секера отправили на живодерню; все, кроме головы, из которой мать отдала сделать чучело и повесила в передней. Окруженная мухами лошадиная голова провожала Изабел стеклянными глазами в тот день, когда она покидала дом. Секер был той самой лошадью, что изуродовала ей лицо; мать рыдала над его чудовищно раздувшимся телом.
«Почему ты плачешь?» — спросила тогда Изабел. Никогда раньше она не видела у матери слез.
«Все пошло вкривь и вкось, — сказала мать. — Война. А когда она кончилась, разве могла я вернуться? Люди сказали бы: «Мы тебе говорили». Никто не хотел, чтобы я выходила за твоего отца. Люди твердили, что из этого не будет толку».
«Какие люди?»
«Люди», — горестно сказала мать.
И правда, кто были эти люди? Друзей и родных Хэриет раскидало во все концы. Вот, что творит война. Она хватает семьи за шиворот, трясет и швыряет в воздух, и даже не побеспокоится взглянуть, куда ты упал, — в точности, как деревенские собаки, когда гоняют крыс.
Но мать Изабел жила не в Европе и, естественно, не видела войны. Война катилась по далеким континентам, убивая все, чего касалась. А мать Изабел сидела, уставясь на желтый горизонт, сегодня такой же, как вчера, на всходившее и заходившее красное солнце, и люди ее прошлого, осудившие ее, постепенно стирались из памяти. Возьмет кто-нибудь на себя труд сказать: «Я тебе говорила»? Конечно, нет. Остался кто-нибудь, чтобы сказать? Мать этого уже не знала. Она не отвечала на письма, и постепенно они перестали приходить.
И теперь она рыдала над Секером, который искалечил лицо ее дочери, зато сохранил ее как личность.
«Плохо быть красивой, — сказала как-то мать Изабел. — Это не приносит счастья. Если ты красива, какой-нибудь мужчина возьмет тебя в жены и не даст пробить себе дорогу в жизни».
Палящее солнце и секущие дожди задубили кожу Хэриет, упрямство искривило рот, а постоянное разглядывание горизонта обвело глаза красным ободком. Но когда-то она была красива. Изабел и сейчас считала мать красавицей. То же, наверное, считал и отец, давным-давно.
Мать Изабел не желала говорить об ее отце. «Он делал все, что ему заблагорассудится, — большего от нее нельзя было добиться, — как и все мужчины».
Изабел думала, что он, верно, был очень сильным, если мог обрабатывать на свой страх и риск столько акров земли, и могущественным, чтобы распоряжаться ею. Она думала, что он, верно, был одним из истинных хозяев этой страны — высоких, худощавых, бронзовых от загара, неразборчивых в средствах, с заострившимися от горячего ветра чертами лица; их окружали табуны лошадей, своры собак и всякая шушера — краснолицые, отупевшие от пива людишки, невежественные и грубые. Если им попадался под ноги цветок, они со смехом топтали его. Если им попадалась собака, они ее пинали. Вот почему собаки рычали и кусались.
Она не представляла мать рядом с таким человеком. К тому же у матери бывали видения, Изабел не сомневалась в этом. Порой матери являлась в желтой пыли или в рыжих тучах, клубившихся над плоской землей, частица божественного откровения, лицо ее освещалось, и она вздыхала от удовольствия.
«В чем дело? — спрашивала маленькая Изабел. — Там что-нибудь есть?» «Больше, чем я могу выразить», — говорила мать, отводя глаза от горизонта, и вновь принималась чистить закопченное дно жестяной кастрюли.
Изабел оторвала ногу у своей любимой куклы, вымазала ее бараньим жиром и дала грызть собакам.
Изабел сама мне рассказала. Она никогда не признавалась в этом никому, кроме меня, ни Хомеру, ее мужу, и уже тем более Джейсону, ее сыну. Я слепая, я не стану ее осуждать, на меня можно положиться.
Кап-кап, тук-тук. Дженифер заварила чай. Хилари протягивает мне тарелку с печеньем.
«Шоколадные дольки и лимонные слойки», — говорит она, описывая содержимое тарелки.
Я беру шоколадную дольку. Лимонные слойки крошатся и сыплются на ковер, и хотя слепые могут орудовать пылесосом, делают они это довольно неумело. Слойки принесла Хоуп. Не очень умно с ее стороны.
Я потеряла зрение два года назад. Не глядя, перебегала дорогу и оказалась под машиной. Меня бросило на капот, снова на землю, и я ударилась затылком о поребрик, тем местом слева от продолговатого мозга, которое заведует зрением. Удар причинил мне вред, сущность которого так и не ясна, просто мои глаза не могут зафиксировать то, что они видят. Это вызывает интерес глазных специалистов, хирургов и даже психиатров, и я без конца хожу в больницу, где они осматривают и обследуют меня, впрыскивают лекарства и всячески вторгаются в мой организм. Они сделали мне операцию, после которой левая сторона правой кисти перестала чувствовать холод и жар, но единственное, чего они добились, это боль, страх и унижение, испытанные мной. Время от времени какой-нибудь раздражительный врач говорил: «Я уверен, вы могли бы видеть, если бы захотели».
В слепоте, естественно, есть своя иерархия, как и многое другое. Поскольку мое печальное состояние непостижимо, чуть ли не предумышленно, а глаза по виду не отличаются от глаз зрячих, я стою на высшей ступени. Благородная слепота. Родиться слепым или ослепнуть из-за болезни котируется ниже. Презренная слепота, Божья кара. Мы не можем отделаться от чувства, что, если Бог поражает нас слепотой при рождении, значит, мы заслужили это. В конце концов миллионы жителей Индии свято в это верят.
Но со мной-то был несчастный случай! Несчастный случай может произойти с кем угодно. Это драматичное и увлекательное событие, дети любят несчастные случаи не меньше, чем гипсовые повязки — свидетельство беды. Я выбежала на улицу, потому что поссорилась с Лоренсом, своим мужем, а машину за спиной не увидела, потому что плакала, а возможно, просто не захотела увидеть.
Послушайте, как дождь бьет по окнам! Летний дождь. Каждая капля — потерянная человеческая душа, гонимая ветрами, которых ей не постичь; она старается проникнуть к нам сюда, где безопасно и тепло, где мы собираем воедино свои немощи и пытаемся получше использовать то, что у нас есть. Будьте благодарны стеклу, ограждающему вас от яростных, сотрясающих окна ударов. Драпируйте их занавесями, протирайте до блеска в ясные дни; и не старайтесь видеть сквозь них слишком много — лишь столько, сколько нужно, чтобы остаться в живых. Берегите свой душевный покой. Времени в обрез, все кончается смертью. Не слишком сокрушайтесь о прошлом, не страшитесь будущего, не тратьте слишком много сил на чужие горести, не то настоящее обратится в ничто.
Всему этому, сама того не зная, меня научила Изабел. Мало-помалу она открывала мне свою историю и саму себя. Кап-кап, тук-тук. Задерните занавеси.
2
В день рождения Джейсона — ему исполнялось шесть лет — Изабел проснулась с ощущением, будто что-то неблагополучно. Она очнулась внезапно: секундой ранее погруженная в глубокий сон, она вдруг открыла глаза и насторожилась. Может быть, в комнату вошел чужой, подумала Изабел, но, конечно же, там никого не было. Хомер, как всегда, лежал рядом с ней, повернувшись на бок, тело расслаблено, дыхание ровное, законный супруг, обожающий свою жену. Нежная кожа век прикрывала чуть выпуклые глаза. Его лицо казалось уязвимым, обнаженным, как обычно бывает у тех, кто носит очки.
Он спокойно спал. Как всегда. Человек с чистой совестью, подумала Изабел. Он не барахтается в глубинах сна, не укрывается в бездонном подсознании, его не мучат кошмары, он аккуратно погружается в сон, ничего не страшась, потому что никому не причинил зла. Если Хомер спит, что может быть неблагополучно?
Что-то. Джейсон? Нет. Если как следует прислушаться — что она и сделала, — были слышны ритмичные колебания тишины, а это значит, что Джейсон крепко спит в своей комнате над ними.
И снаружи на Уинкастер-роу тоже ничего не происходило. Было всего полседьмого, слишком рано для молочника, мальчишки-газетчика и почтальона, этих ранних гостей, которые, словно выполняя обряд, появляются с неизменностью солнца, чтобы напомнить каждой семье, что она не существует сама по себе, а добывает свой хлеб благодаря другим: пора вставать и приниматься за дело. Ну, времени еще хватит.
Страх, разбудивший Изабел, не уменьшился при мысли, что для него нет причин; скорее, он стал еще глубже, перешел в предчувствие, что вот-вот произойдет что-то ужасное.
Работа? Но что там может произойти? Она вела ночную программу для Би-би-си; четыре предыдущих прошли с успехом; недавно с ней заключили контракт еще на два года; работа была сравнительно легкой. Правда, надо было «повышать свой уровень» и каждый понедельник отдавать собственную Персону на растерзание миллионов слушателей, но это было не так уж трудно и к среде уже забывалось. Даже если контракт расторгнут и ее выгонят с позором, это не станет для нее бедствием, — просто практической проблемой. А неожиданный ужас, такой глубокий, что у Изабел захватило дух и пришлось крепко сжать грудь руками, не имел никакого отношения к практическим вещам.
День рождения Джейсона? Днем он идет в кино с пятью школьными друзьями. Радости это не доставит, но и бояться тут нечего. Хомер вернется из конторы пораньше и отведет их в кинотеатр, а она останется дома, покроет глазурью торт и нарежет тартинки в виде крошечных зверюшек. Такое разделение труда было справедливым и, как всегда, не вызвало недовольства.

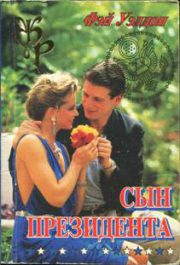
"Сын президента" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сын президента". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сын президента" друзьям в соцсетях.