Старый Батлер подошел к окну и распахнул его. Он смотрел в звездное небо, видел золотой диск луны.
«Где же ты сейчас, мой сын? Что ты сейчас делаешь? Услышь мои слова, я прощаю тебя, прощаю, прощаю…» — побледневшими губами шептал старый джентльмен, глядя в звездное небо.
Ему казалось, что его негромкий шепот отражается от звезд и возвращается к нему, не найдя своего адресата.
«Прощаю», — шептал старик.
Но никто не слышал его слов, он разговаривал с самим собой.
И тогда старый Батлер подошел к книжному шкафу и достал старинное Евангелие с серебряными застежками. Эта книга принадлежала роду Батлеров.
Чарльз Батлер расстегнул застежки и развернул книгу, устроившись у свечи.
Он склонился над книгой и принялся читать. Казалось, святые слова успокаивали его душу.
Он понимал, что так всегда было на земле. Что сын должен идти своей дорогой, и что родители должны прощать своих детей, а не отвергать.
А если уж и случилось такое, то нужно ждать возвращения, смирив свою гордыню, и простить блудного сына.
Ведь раскаявшийся грешник всегда дороже двух праведников…
Он еще долго сидел у свечи с раскрытой книгой на коленях.
Каролина Паркинсон сидела в своей комнате, разбирала письма и бумаги. Вокруг нее царил беспорядок.
Большие кожаные саквояжи и кованые дорожные сундуки стояли посреди комнаты. Платья валялись повсюду на стульях и на диванах.
С чердаков принесли шали, из шкафов и полированных комодов вынули шелка, белье, драгоценности.
Все это надо было осмотреть и отобрать в дорогу самое необходимое.
Каролина твердо решила покинуть дом.
Было неизвестно, вернется ли она когда-нибудь сюда снова.
В ее жизни наступил перелом, вот почему она сжигала теперь старые письма, свои дневники. Она не хотела, чтобы над ней тяготели воспоминания о прошлом.
Вот ей попалась пачка написанных от руки стихов. Это были еще детские ее стихи.
Не верь смеху, — поучали они,
Не верь танцу,
Не верь шутке.
«О, старые стихи! Неужели же верить одним слезам и горю! Легко заставить скорбные уста улыбаться, но веселый не может плакать.
Лишь слезам и вздохам верны старые стихи. Одному лишь горю, одной печали. Горе неподдельно и непреодолимо, а радость — это то же самое горе, которое умеет притворяться. На земле, собственно, нет ничего, кроме горя», — думала Каролина, сжимая в пальцах листы бумаги.
Каролина поняла, что все дело в самом человеке, что ощущения, горе или радость зависят от того, как сам человек смотрит на вещи.
И она спросила себя, было ли счастьем или несчастьем то, что произошло с ней.
Едва ли она могла ответить на этот вопрос. Много переживаний ей пришлось перенести, душа ее была истерзана, глубокое унижение пригнуло ее к земле.
«Я не буду помнить всего зла, которое причинил мне отец. Он довел меня до отчаяния, когда бил мою мать. Я не желаю ему зла, но я боюсь его», — она стала замечать, что с трудом выносит его присутствие.
Одно желание владело Каролиной — убежать из дому. Она пыталась пересилить себя, она разговаривала с ним как прежде и старалась не избегать его общества.
Она умела владеть собой, но страдала невыносимо.
В конце концов, все стало ненавистным — его грубый громкий голос, его тяжелая поступь, его большие руки.
Она не желала ему зла и вряд ли хотела причинить ему вред. Но приближаясь к нему, она всегда испытывала страх и отвращение. Ее оскорбленное сердце мстило ей.
«Ты не позволило мне любить, — словно говорило оно, — но все же я повелеваю тобой — и в конце концов ты будешь ненавидеть».
Каролина уже привыкла анализировать свои чувства. И теперь замечала, как ненависть росла в ней, становилась все глубже и глубже.
Вместе с тем ей казалось, что она будет навечно привязанной к отчему дому.
Она поняла, что самое лучшее для нее — уехать и жить среди чужих людей.
Тогда, после бала, у нее еще не хватало сил…
Но, наконец-то она решилась.
Каролина бросила письма в тяжелый кованый сундук и вспомнила свой разговор с матерью, вспомнила свой вопрос:
— Очень бы ты стала горевать, если бы отец умер? — спросила Каролина.
— Дочь, ты сердишься на отца, ты все время сердишься на него. Почему ты не можешь хорошо относиться к нему?
— Ах, мама, что я могу поделать, если я боюсь его? Разве ты не видишь сама, какой он ужасный! Разве могу я любить его таким? Он вспыльчив и груб, и из-за этого ты состарилась так рано. По какому праву он распоряжается нами?! Он ведет себя, словно взбесившийся самодур. Почему я должна уважать и почитать его? Где его доброта и милосердие? Я знаю, что он силен, что в любую минуту, он может вышвырнуть нас из дому. Не за это ли я должна любить его?
Но тут мать словно подменили, она вновь обрела силу и мужество.
И неожиданно заговорила властным голосом:
— Берегись, Каролина, мне кажется, что отец твой был прав, когда не пустил тебя в дом. Вот увидишь, не миновать тебе кары. Придется тебе учиться терпению без ненависти и страданию без мести.
— О мама, я так несчастна.
— Но ведь его уже и так покарало небо — с ним случился удар.
Дочь сердито поджала губы.
— Он оскорбил меня своими грязными подозрениями. А тебя он бил, мама. Неужели ты можешь такое простить?
— Дочь, но ты сама дала ему повод.
— А он не пустил меня домой, — настаивала Каролина, — большего оскорбления невозможно придумать. Ведь я всегда с радостью возвращалась домой, знала, что меня здесь ждут, любят. А теперь…
Каролина заплакала и прикрыла лицо руками. Мать, обняв ее за плечи, сидела рядом и не знала, какие найти слова утешения, чтобы дочь перестала рыдать.
Но девушка пришла в себя без ее помощи. Она резко выпрямилась, вытерла слезы, и в ее глазах заблестела злость.
Мать, испугавшись такой перемены, отшатнулась от дочери.
— Я знаю, зачем он это делал, — как бы обращаясь к кому-то третьему в комнате, сказала Каролина.
— Что ты говоришь? — спросила мать.
— Да, отец покупал мне драгоценности, выполнял каждую мою просьбу лишь только для того, чтобы возвыситься самому.
Он всем хотел показать, как меня любит — и вот чем обернулась вся его любовь.
Он любит только себя, мама, он запер тебя в спальне, бил, он запер дом, оставив меня на улице, как бродячую собаку. А сам во всем принялся винить меня и тебя.
Неужели ты этого не понимаешь, мама? Я не смогу с ним больше жить в одном доме, я должна уехать.
— Но не нужно это делать так скоропалительно, — возражала ей мать, — ведь отец может расстроиться еще больше, ему станет хуже…
Мать не договорила, она не могла заставить себя вымолвить «отец умрет», но вместо нее это сделала дочь.
— Ну и пусть! Мне не будет его жалко. Моя любовь к нему кончилась этой ночью, он растоптал все мои лучшие чувства… Ты знаешь, мама, когда я возвращалась домой, то не чувствовала себя ни в чем виноватой — и Рэтт Батлер здесь ни при чем. Он вел себя безукоризненно, он был настоящим джентльменом. Он подобрал меня на улице, дал мне крышу, уступил мне свою кровать, а сам сидел у камина и бодрствовал, охраняя мой сон…
Мать задумчиво смотрела на дочь. Ей было жаль Каролину, она не могла себя заставить расстаться с ней надолго.
Но что было делать? Ведь дочь уже приняла решение.
Конечно, можно было пойти к мужу, попытаться уговорить его повлиять на дочь.
Но миссис Паркинсон вспомнила пьяное лицо мужа той ночью, вспомнила свистящие удары хлыста, которые обжигали ее тело…
И она поняла, что бессильна, она не сможет уговорить ни дочь, ни мужа, и останется одна в этом доме. Она не сможет больше смотреть в глаза своему мужу, ведь тот будет считать виновной ее, виновной в том, что она не смогла удержать дочь.
— Ты можешь пойти к отцу, — как бы угадав мысли матери, сказала дочь, — но это меня не удержит. Пусть он запретит брать мне с собой все, что купил мне на свои деньги, но ты же знаешь, я смогу прекрасно устроить свою жизнь. Пусть без любви, как ты, но я буду богата.
— Но ты не будешь счастлива, — запротестовала мать.
— А разве счастлива ты? — спросила Каролина.
Мать, потупив взгляд, покинула ее комнату и спустилась к мужу. Тот все еще был слаб.
А Каролина сбрасывала в сундук одну пачку писем за другой, как бы боясь оставить в этом доме часть своих мыслей, своих переживаний.
«Завтра же утром я уеду, — твердо решила Каролина. — И обязательно буду счастлива вопреки всем».
ГЛАВА 5
Илистая извилистая река Флинт, молчаливо проложившая себе путь между высокими темными стенами из сосен и черных дубов, оплетенных диким виноградом, принимала в свои объятья новоприобретенные владения Джеральда, омывая их с двух сторон.
Ведь выиграв поместье Тара, Джеральд О’Хара, не откладывая дела в долгий ящик, сразу же собрался в путь.
И глядя с невысокого холма, где когда-то стоял дом, на живую темно-зеленую стену, Джеральд испытывал приятное чувство собственника, словно он сам возвел эту ограду вокруг своих владений.
А они были довольно-таки обширными.
Джеральд стоял на почерневшем каменном фундаменте, скользил взглядом по длинной аллее, тянувшейся от сгоревшего дома к проселочной дороге, и про себя чертыхался от радости, слишком глубокой, чтобы он мог ее выразить словами благодарственной молитвы.
— Вот, наконец-то, — шептал себе Джеральд О’Хара, — я стал плантатором. Наконец-то у меня появились свои владения. Правда, пока еще я не имею дома, но это только пока. Ведь у меня есть пара крепких рук, сообразительная голова и есть желание построить дом — а это самое главное.
И Джеральд, подняв голову к небу, громко выкрикивал:
— Я владелец этой земли! Я, Джеральд О’Хара! Все, что здесь есть принадлежит только мне!
Джеральд задыхался от распиравшей его радости. Он посмотрел на небольшой домик, в котором жил управляющий его поместьем.
«Этот домик мне подойдет на первое время, но только лишь на первое».
Усевшись прямо на земле, он пообещал себе, что скоро, очень скоро на месте этого холма, на старом фундаменте, он сможет возвести большой и красивый дом, такой, чтобы все окрестные плантаторы завидовали ему и восхищались его умением вести хозяйство.
А в том, что дела пойдут на лад, Джеральд О’Хара не сомневался ни секунды, ведь он был упорным и трудолюбивым. Он не боялся никакой работы, даже самой грязной.
И в его воображении уже возникали очертания большого дома с колоннами и балюстрадами.
«Это будет мой дом, дом Джеральда О’Хара, и пусть мои братья и все, кто знает нашу семью, приезжают сюда в гости.
Я буду принимать их как королей и пусть они восхищаются мной.
Пусть не думают, что младший О’Хара, которого все называли Малыш, ничего в этой жизни не стоит. Я стою — и очень многого».
Он смотрел на два ряда величественных деревьев, которые принадлежали теперь ему.
И эта заброшенная лужайка, заросшая сорной травой, и эти еще молоденькие магнолии, осыпанные крупными белыми звездами цветов.
Невозделанные поля с порослью кустарника и проклюнувшимися из красной глины молоденьким сосенками, раскинувшиеся во все четыре стороны от холма, принадлежали ему, Джеральду О’Хара, который, как истинный ирландец, умел пить, не хмелея, и не боялся когда надо поставить на карту все что имел.
Закрыв глаза, Джеральд О’Хара вслушивался в тишину этих еще не разбуженных к жизни полей. Он знал, что обрел свое гнездо.
Здесь, на этом месте, где он сейчас стоит, поднимутся кирпичные, побеленные известью стены его дома. Там, по ту сторону дороги, возникнет ограда, за которой будет пастись хорошо откормленный скот и чистокровные лошади.
А красная земля, покато спускающаяся к влажной пойме реки, засверкает на солнце белым лебяжьим пухом хлопка, акрами хлопка.
И слава рода О’Хара заблистает снова.
Осмотрев свои владения, поговорив с соседями-плантаторами, он тут же вернулся в Савану.
Братья встретили его настороженно.
Но когда Джеральд принялся расписывать им свои владения, они немного смягчились. Ведь они понимали, что производство хлопка и табака очень выгодно, потому что на них всегда есть спрос. И не только здесь, в Джорджии, но и в далекой Англии, в далекой Европе. Хлопок и табак нужны всем.
А младший О’Хара так красноречиво расписывал, как он займется ведением хозяйства и какие у него будут прекрасные урожаи, что скептично настроенные братья немного смягчились.
— Неужели, Джеральд, ты сможешь стать настоящим плантатором?

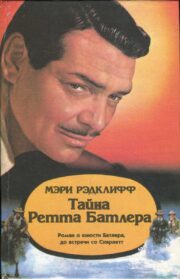
"Тайна Ретта Батлера" отзывы
Отзывы читателей о книге "Тайна Ретта Батлера". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Тайна Ретта Батлера" друзьям в соцсетях.