Ни одним словом не обменялись они в продолжение всего пути. Вид и взгляд Самуила леденили кровь. Машинально, как пьяная, она шла в свои комнаты, и только когда Самуил ушел, заперев за собой дверь будуара, она тяжело опустилась в кресло и закрыла лицо руками. Действительность предстала перед ней во всей своей ужасающей наготе. Упоительные мечты, которым она в течение четырех месяцев предавалась в объятиях Рауля, исчезли. Что решит ее неумолимый судья? Запятнав его честь, она вдвойне оскорбила его, отдавшись его сопернику, которого он ненавидел. Руфь поняла, что Самуил никогда не потерпит в своем доме ребенка князя и не покроет его своим именем. Что будет с ней, если он отошлет ее со скандалом? Как примут родные обесчещенную женщину, которая, отдавшись христианину, переступила закон еврейского народа? С мучительной тревогой думала она о своем отце, жестоком фанатике, заклятом враге гоев. Ужас и отчаяние сжимали ее сердце. Ах, как проклинала она в эту минуту свою пагубную ревность, подбившую ее искать доказательств неверности мужа, как кляла несчастную записку, найденную ею, эту насмешку судьбы, увлекшую ее с пути истинного!..
Чувство недомогания и жажда, мучившие ее, отвлекли ее от печальных размышлений. Усталым взглядом посмотрела она вокруг и вздрогнула. Было почти темно, значит, много часов провела она здесь, а Самуил не возвращался.
Руфь встала, прошла в спальню – никто не ответил на ее зов. Толкнула дверь в уборную, но она оказалась закрытой на замок. Все вокруг было безмолвно и пусто. Руфь не решалась позвонить, но ей было страшно в темноте и одиночестве, она задыхалась и, поспешно подойдя к дверям балкона, выходящего в сад, распахнула обе половинки. Чистый воздух, наполненный ароматами сирени, ворвался в комнату, принеся ей некоторое облегчение. Тогда она взяла спички, зажгла лампу и свечи, затем вынула из шкафа графин с вином, налила из него рюмку и с жадностью выпила.
Это подкрепило ее, и на минуту она успокоилась, но вскоре тревога снова овладела ею. Что значит это заключение? О, если бы по крайней мере ее ребенок был с ней, тогда она перенесла бы все. Этот живой портрет человека, которого она боготворила, дал бы ей силы и мужество.
Падение чего-то, брошенного в открытую дверь балкона и упавшего к ногам молодой женщины, заставило ее вздрогнуть. Она нагнулась и подняла камешек, к которому была привязана записка. С удивлением развернула она ее и прочла следующее:
«Милостивая государыня! Я здесь, у вашего балкона, и, если вы нуждаетесь в помощи против слишком суровых мер вашего мужа, я готов служить вам.
Руфь радостно вскрикнула и выбежала на балкон.
– Вы здесь, Гильберт? – прошептала она.
– Да, здесь, к вашим услугам. Скажите только, как в случае надобности пробраться к вам, – ответил голос из чащи деревьев.
– Я еще не знаю, что меня ожидает. Я заперта, и пробраться ко мне нелегко: гардеробная на замке. Направо, в углублении флигеля, занимаемого жильцами, обыкновенно стоит лестница, вы…
Шум замка за спиной в дверях будуара прервал ее слова. Она поспешила вернуться в комнаты и, вдруг ослабев от охватившего ее страдания, опустилась в кресло.
Когда молодая женщина поспешно вернулась в комнату, Гильберт понял, что она услышала шаги мужа. Не теряя ни минуты, он велел Николаю оставаться в кустах, меж тем как сам с быстротой кошки влез на большое дерево против балкона. Скрытый в густой листве, он мог прекрасно видеть и слышать все, что произойдет.
Не найдя Руфь в будуаре, Самуил вошел в спальню. Он был бледен, как призрак, и мрачно глядели его большие глаза. В нескольких шагах от жены он остановился и глухо сказал:
– Я пришел узнать от тебя самой, каким образом ты сделалась любовницей князя Орохай?
Руфь встала и, стараясь схватить руку мужа, прошептала, умоляюще смотря на него:
– Ах, Самуил! Сжалься надо мной, не заставляй меня вспоминать прошлое. Прости меня!
Самуил отшатнулся с отвращением.
– Пожалуйста, без комедий. Я пришел говорить о деле, а не глядеть на сцены. Сознайся, негодная, во всех подробностях своей бесстыдной связи.
Его движения, холодные, жестокие слова привели ее в негодование, и лицо ее вспыхнуло. Она была возмущена человеком, который никогда не любил ее и безжалостно осуждал.
– Хорошо! – сказала она со сверкающим взглядом. – Я скажу всю правду, но прежде всего о тебе самом, виновнике моего унижения. Зачем, любя другую, ты женился на мне? Когда через неделю после свадьбы я узнала, что ты обрек меня на жизнь домашнего животного, я просила отпустить меня, дать мне свободу, ты не согласился, ты оставил меня, ты приковал меня к себе, платя мне за безумную любовь, которую я, несмотря ни на что, к тебе питала, холодностью, презрением, упорно удаляясь от меня и грубо отталкивая меня всякий раз, как я пыталась к тебе приблизиться. Вечно одна, осужденная на скуку, я впервые узнала безумную ревность. Твое вечное отсутствие зародило во мне подозрение, что ты посещаешь другую женщину. Я искала в твоем кабинете доказательств этой связи и случайно нашла записку, потерянную Джеммой Торелли. Рассчитывая тебя поймать, я отправилась на маскарад, а одинаковый рост и черные глаза Мефистофеля ввели меня в заблуждение. Вот почему, по-прежнему надеясь разоблачить тебя, я очутилась в кабинете ресторана. Узнав свою ошибку, я умоляла князя, не называя, однако, себя, отпустить меня, и в тот день вернулась домой незапятнанной, ибо князь – человек чести и удовольствовался моим обещанием, что я позову его, если буду чувствовать себя несчастной. Я поклялась себе никогда этого не делать, так как хотела остаться честной, и, когда ты сказал мне, что уезжаешь в Париж, я просила тебя взять меня с собой, боясь долгого одиночества и искушающих мыслей. Ты тогда жестоко отказал мне, как будто моя просьба была для тебя оскорблением. Жена была всегда лишней в твоей жизни. Тебе ни разу не приходило в голову, что это несчастное существо могло желать чего-нибудь более роли экономки, что у нее есть сердце, чувства, которые ты в ней пробудил, никогда не удовлетворив их, что у тебя есть обязанности относительно меня и что если ты отказывал ей в любви, то мог, по крайней мере, заменить это чувство дружбой. Увлеченная негодованием и оскорбленной гордостью, я стала видеться с князем… Его любовь льстила мне и приводила меня в упоение, я излила на него все чувства, с которыми до сих пор не знала, что делать. Да, я обесчещена, я погибла. Но я не упала бы так низко, если бы человек, клявшийся перед Богом любить меня и заботиться обо мне, руководил мною, поддерживал меня, вместо того чтобы отталкивать и презирать… Больше мне нечего сказать тебе. Подумай, имеешь ли ты право быть мне строгим судьей…
Руфь замолчала, задыхаясь от волнения. По мере того как она говорила, лицо Самуила бледнело все более и более, каждое из ее обвинений как обухом ударяло его по голове, неподкупный внутренний голос шептал ему: «Все это правда». Но как она осмелилась мстить ему, выбрав себе в любовники человека, которого он смертельно ненавидел? Бешенство, кипевшее в нем, ослепило его и заглушало чувство справедливости и жалости.
– Удивляюсь искусству женской тактики, которая сумела повернуть оружие и из подсудимой сделать себя обвинительницей, – насмешливо сказал он. – Конечно, чтобы тебе быть невинной, преступником должен остаться я. Ведь я заставил тебя пасть так низко, внушил тебе мысль взять себе любовника и наделить меня незаконным ребенком. К сожалению, я не могу признать себя столь виновным! Я дал тебе все, исключая мою любовь, но многие женщины не встречают любви в жизни. Мало ли жен, которые ищут ее и находят в обязанностях матери и хозяйки дома цель своего существования! У тебя был ребенок, мог бы быть и другой. Воспитание их в спокойной и богатой обстановке могло быть не менее ценно, чем романтические бредни. Но довольно о прошлом, надо говорить о будущем. Ты уличена в преступной связи с гоем, а Леви свидетель тому, что я застал тебя на месте преступления. Я мог бы развестись с тобой и отослать тебя к твоему отцу, но для тебя так же, как и для меня, скандал был бы ужасным делом, и я твердо решился не делать себя предметом насмешек. Позор не должен выходить за эти стены, и я даю тебе лучший выход, которым ты охотно воспользуешься, если чувство собственного достоинства и стыда не совсем угасло в тебе.
Он пошел в будуар, принес оттуда лист бумаги, чернила и перо, затем налил вина в стакан и всыпал в него белый порошок, который достал из кармана.
С ужасом и мучительной тревогой следила Руфь за каждым движением мужа.
– Теперь возьми перо и пиши то, что я тебе продиктую.
– Я не могу, я не понимаю, – прошептала Руфь, отодвигаясь.
– Я тебе приказываю! – проговорил дрожащими губами Самуил, крепко схватив за руку Руфь.
Под давлением его воли, как автомат, она написала следующие строки:
«По многим причинам я не могу больше жить. Бог и мои родные простят мне мое решение и не будут никого винить в моей смерти, так как я умираю добровольно.
Самуил перечитал записку, положил ее к себе в карман и, пододвинув стакан к онемевшей от ужаса жене, холодно сказал:
– А теперь пей так же смело, как ты меня обманывала и бесчестила.
– Ты хочешь убить меня, но это невозможно, нет, ты только пугаешь меня. Как бы я ни была виновата, ты не имеешь права лишать меня жизни!.. – Упав на колени, она уцепилась за платье мужа… – Самуил! Самуил! Будь же человеком. Разведись со мной, выгони меня, я уеду из города и никогда не покажусь тебе на глаза, ничего не буду требовать от тебя, только оставь мне жизнь.
– Ну да, ты уедешь от меня и потребуешь помощи и поддержки у князя, – проговорил, задыхаясь, Самуил и, схватив за руку Руфь, все еще стоявшую на коленях, притянул ее к столу.
– Пей, жалкая, гнусная, трусливая тварь! Пойми, что ты не выйдешь живой из этой комнаты и что незаконный ребенок должен умереть вместе с тобой.
– Нет-нет, я не хочу умирать, я боюсь смерти, – сказала молодая женщина, защищаясь и отступая, протянув руки вперед.
– Ты представляешь такой же образчик героизма, как и добродетели, – язвительно заметил Самуил, – но на этот раз тебе придется быть храбрей помимо твоей воли. Я даю тебе полчаса на размышления, чтобы ты могла приготовиться отдать Богу душу.
Он сел, вынул часы и положил их на стол. Руфь ничего не ответила. В суровом взгляде мужа она прочла беспощадный приговор. Измученная, обезумев от ужаса, исступленным взглядом глядела она на стакан, заключавший в себе смерть. Такая развязка ужасала ее: в ее молодом, полном жизни организме все возмутилось против этой казни, и капли холодного пота выступили на лбу.
С волнением Гильберт Петесу следил за всеми перипетиями этой ужасной сцены. Решимость, начерченная на бледном бесстрастном лице Самуила, не оставляла сомнений в конечном исходе, который должен разрушить его столь выгодные планы.
– Ах ты каналья, – ворчал он в бешенстве. – Если я не придумаю какой-нибудь диверсии, он убьет ее, и тогда прощай бриллианты! Но что придумать, минуты сочтены.
Несколько минут он раздумывал, затем слез с дерева и скрылся во мраке, пробираясь вдоль дома.
Чтобы читатель понял смелое предприятие проходимцев, надо сказать несколько слов о внутреннем расположении комнат.
Половина флигеля первого этажа была занята самим Самуилом, другая же половина здания, третий и четвертый этажи с отдельным подъездом, включая большую квартиру банкира, выходившую на лестницу, была занята жильцами.
Старик Авраам жил внизу, а сына своего отделил, так как у молодого человека были иные привычки и он вел совершенно иной образ жизни. Собираясь жениться на Валерии, Самуил расширил и приспособил к новым требованиям свою холостяцкую квартиру, которую он предпочитал слишком роскошным комнатам нижнего этажа. Но когда судьба разрушила все его планы, дав ему другую невесту, последовали новые перемены. Во втором этаже была приготовлена для молодых супругов квартира, там были спальни, гардеробные и приемные комнаты, а внизу Самуил устроил себе кабинет и, как верный часовой сторожил от нескромных глаз три замкнутые комнаты, в которых он сохранил все воспоминания своей несчастной любви, равно как и всю меблировку и все подарки, предназначенные любимой женщине. Возле кабинета находилась читальня, из которой маленькая винтовая лестница вела в спальню. Остальная часть нижнего помещения была занята библиотекой, залой, предназначенной для коллекции картин и китайского фарфора, большой оранжереей, выходящей на памятную террасу, мастерской и прочим. Этот уголок, где он чувствовал себя далее от жены, был любимым его убежищем, особенно летом.
Гильберт прекрасно знал все эти подробности и, пока пробирался вдоль стены дома, нетерпеливо искал глазами какое-нибудь освещенное окно. Вскоре он заметил слабую полосу света, которая, пробиваясь сквозь опущенные шторы, падала на зеленую листву кустов. Но несколько далее из широко открытого окна разливался поток света. Очень осторожно Гильберт приподнялся до самого подоконника и бросил взгляд в комнату. То была зала, смежная с кабинетом, дверь которой была заперта, в зале никого не было, на столе стоял канделябр из пяти свечей, освещая шляпу и перчатки банкира, равно как и кипу журналов и различных бумаг. Как кошка, бесшумно прыгнул он в комнату и, схватив канделябр, поджег бумаги, скатерть на столе и занавеси, затем положил опрокинутый канделябр на пол и выпрыгнул в сад. Подойдя к брату, таившемуся в кустах, он тихо сказал:

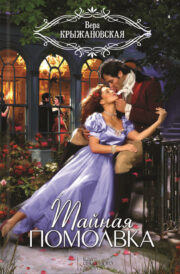
"Тайная помолвка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Тайная помолвка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Тайная помолвка" друзьям в соцсетях.