– Мне противно, – сухо сказал он, – вместо сходства с тобой или со мной в лице моего сына видеть черты еврея Мейера. Может быть, тебе более, чем мне, известны причины этой возмутительной случайности, которая дает повод к очень странным предположениям.
Валерия на минуту онемела, затем встала, бледная, как ее батистовый пеньюар, и большие синие глаза ее мгновенно потемнели от гнева.
– Какие у тебя доказательства, – проговорила она дрожащим голосом, – чтобы оправдать такое подлое оскорбление?
При виде этого страшного негодования доброе великодушное сердце Рауля взяло верх; он тотчас же раскаялся в том, что позволил себе так незаслуженно, быть может, обидеть жену.
– Прости меня, Валерия, – вымолвил он, поспешно подходя к ней, – моя…
Он не мог продолжать, так как в соседней комнате послышался голос Антуанетты и графиня Маркош вошла на балкон со своим старшим сыном.
– Здравствуй, Антуанетта, что так рано? – сказал Рауль.
Валерия стояла неподвижно, молча глотая слезы.
Графиня тотчас же заметила, что между ними произошло что-то, но не показала этого и спокойно ответила:
– Я пришла посоветоваться с Валерией, я хочу похитить ее у тебя на полчаса.
Но не успели молодые женщины уйти с балкона, как вошел лакей и, подавая Раулю несколько писем, сказал:
– Какой-то неизвестный покорнейше просит вашу светлость принять его по важному делу.
– Кто это может быть? И что ему от меня надо? – спросил с нетерпением Рауль.
– Он назвал себя Гильбертом. Я думаю, что один из погорельцев сегодняшнего пожара пришел, должно быть, просить помощи, так как всем известна благотворительность вашей милости.
При имени Гильберта князь несколько покраснел.
– Проведите этого человека ко мне в кабинет, я сейчас приду. Что за пожар, о котором вы говорили?
– Сегодня ночью, ваша милость, загорелся дом банкира Мейера, барона Вельдена. Страшный, говорят, был пожар, сам владелец и его жена погибли в пламени.
Пораженный Рауль отпустил лакея, но в то же мгновение услышал за собой восклицание Антуанетты и, бросившись к ней, увидел жену, лежащую в кресле.
– Вероятно, смерть Мейера так сильно подействовала на Валерию, – сказал Рауль, вспыхнув. – Скажи ей, Антуанетта, когда она придет в себя, что теперешний обморок при известии о несчастье, постигшем ее бывшего жениха, есть одно из доказательств, которых она у меня требовала.
– Рауль, – поднимая голову, поспешно сказала графиня, старавшаяся привести в чувство подругу, – твои слова доставляют мне наконец случай, которого я давно ждала, – поговорить с тобой откровенно. Я не узнаю тебя с некоторых пор. Ты, такой добрый и великодушный, так жесток относительно Валерии. Сегодня у вас произошла какая-то семейная сцена, которая могла быть причиной ее обморока. Ну скажи откровенно, что вооружило тебя до такой степени против той, которую ты так любил?
– Я бы очень желал, чтобы ты была права, – ответил Рауль, кусая губы и стараясь подавить слезы, готовые выступить на глазах. – Однако же ты осталась спокойна при известии, которое должно было произвести на тебя такое же впечатление, как и на Валерию. Ты должна согласиться с тем, что чувствует каждый муж, находя в чертах своего ребенка живой портрет человека, игравшего таинственную роль в жизни его жены, и увидев, что она падает в обморок при известии о его смерти.
– Рауль, тебя увлекает ревность, – строго проговорила Антуанетта. – Можешь ли ты действительно предполагать, что эта чистая душа способна на такую гнусную против тебя измену? Стыдись! Валерия была взволнована, когда я вошла. Если ты ей сказал нечто подобное тому, что я сейчас слышала, то, полагаю, это достаточная причина лишиться чувств.
Глубокое убеждение, которое слышалось в голосе и светилось в глазах графини, произвело благотворное впечатление на Рауля. Ничего не отвечая на ее слова, он прижал к своим губам руку невестки и ушел.
Беседа с Гильбертом не успокоила его. Жестокость Самуила относительно жены ужаснула его. Узнав, что молодая женщина спасена, он вручил этому проходимцу крупную сумму денег, прося его позаботиться о Руфи и ее ребенке и всегда, когда нужно, обращаться к нему.
Он остался один, и неодолимое желание высказаться, вылить свое горе испытанному, преданному другу заставило его подумать о матери.
Старая княгиня занимала в одном из предместий небольшой дом, окруженный садом. Ей было предписано жить вне города, так как последние четыре года ее здоровье очень пострадало. Она перестала владеть ногами, и изнурительная лихорадка подорвала ее силы. Прекрасное утро несколько оживило ее, и она велела вывезти свое кресло в сад, под тень сирени.
Когда вошел Рауль, она тотчас заметила, что он расстроен.
– Милая моя, – обратилась она к лектрисе, – пойдите отдохните, пока Рауль со мной. Вы много читали сегодня.
Едва высокая худощавая фигура скрылась в конце аллеи, она взяла руку сына и привлекла его к себе.
– Сядь здесь, у моих ног, – нежно сказала она, – и поговорим откровенно, как было, когда ты был ребенком и приходил поверять мне, своему единственному другу, все свои радости и печали.
Рауль прижал к губам худую, прозрачную руку матери.
– Да, дорогая моя, я пришел, чтобы открыть тебе мою душу, поведать тебе о моих заблуждениях и моей печали. Я очень изменился с тех пор, как женат, и уже не тот добрый, невинный мальчик, каким ты меня воспитала. Я наделал много дурного, я так несчастлив.
Голос его оборвался, и он опустил голову на колени матери. Она ласково откинула рукой его шелковистые волосы и, целуя его лоб, со вздохом сказала:
– Я давно заметила, что глаза твои не светятся счастьем. Я боюсь, что, может, в слепом увлечении, желая во что бы то ни стало составить твое счастье, я утешила печаль и тем лишила тебя возможности быть счастливым в зрелом возрасте.
– Дорогая матушка, не упрекай себя ни в чем! Я знаю, что у тебя была одна цель – мое счастье. Но теперь ты должна сказать мне правду, знала ли ты, что Валерия меня не любит и что сердце ее принадлежало другому. Мне необходимо знать истину, мне необходимы твои советы, чтобы привести в порядок хаос, господствующий в моей душе и не дающий мне покоя.
– Да, теперь я сознаю, какая дерзость со стороны человека воображать, что при его слепоте, при всей ограниченности он может подчинить себе обстоятельства своим истинным желанием. Твоя болезнь тогда, дорогой мой, и страх потерять тебя сводили меня с ума. Доктор объявил, что реакция, вызванная радостью, только и может тебя спасти. Поэтому-то я и добилась привести невесту к твоему изголовью.
В коротких словах, но ничего не пропуская, сообщила она ему все предшествующие его женитьбе события, но когда она в своем рассказе дошла до случая в день свадьбы, когда Рудольф едва успел спасти свою сестру от смерти, вытащив ее из пруда (в чем ей повинилась Антуанетта), Рауль вспыхнул.
– О! – воскликнул он, дрожа от негодования. – Если бы я знал, что она становилась рядом со мной перед алтарем, только что вырвавшись из объятий своего возлюбленного, я оттолкнул бы ее руку. Ничто не остановило бы меня! Она побоялась огласки, но у нее достаточно смелости обмануть мое доверие и посрамить мою честь.
– Ты увлекаешься, друг мой! Романтическая натура Валерии толкнула ее на этот роковой шаг. Она хотела оправдаться перед человеком, которого она покинула и считала погибшим из-за любви к ней, но никогда не могла она дойти до того, чтобы изменить тебе. Я считаю ее неспособной унизиться до такой степени, чтобы завести любовника.
– Ошибаешься ты, матушка, если веришь всему этому, – сказал Рауль, и слезы гнева выступили у него на глазах. – Надо быть очень интимной с человеком, чтобы бежать в дом ею же отвергнутого жениха в подвенечном платье. Я не поймал ее с поличным, но убежден, что мое счастье поругано, ибо явное доказательство ее измены существует. Теперь выслушай, в свою очередь, меня, и ты согласишься со мной.
Он с волнением рассказал матери подробности своей супружеской жизни, признался во всех увлечениях, в злополучной связи с женой Мейера и ее последствиях. Затем сообщил ей об отказе Самуила драться с ним ради спокойствия Валерии, о поразившем его сходстве с его ребенком и об обмороке Валерии при известии о смерти барона.
– Потому что, – прибавил он, – не падают же в обморок, узнав о смерти человека, которого когда-то любили, а затем не видели четыре года.
Затем он в нескольких словах передал разговор с Гильбертом и меры, чтобы обеспечить, по возможности, будущее Руфи и ее ребенка.
– Видишь ли, матушка, он выгнал из дому свою преступную жену, – заключил он, стиснув зубы. – Мало того, он счел себя вправе убить ее, чтобы уничтожить вместе с ней незаконного ребенка. А я? Неужели я должен безропотно отдавать мое незапятнанное имя и мой титул чужому ребенку, да еще ребенку еврея? Да есть ли достаточное наказание изменнице?
– Рауль, дитя мое, ты преувеличиваешь. Внутренний голос говорит мне, что Валерия невинна. При ее чуткой, впечатлительной натуре могло случиться, что, думая часто о бывшем женихе, она невольно передала ему злополучное сходство с Мейером. Можно ли по такому шаткому подозрению обвинять жену? Мейер после шестимесячного отсутствия уличил жену в неверности. Будь у тебя такие же доказательства против Валерии, я бы первая сказала тебе – разведись. А потому, прошу тебя, Рауль, отбрось всякие сомнения и не отталкивай от себя ребенка, который все же твой сын. Амедей любит тебя еще больше, чем свою мать. Он весь оживляется, едва заслышит твои шаги. Лишь голос крови может так сильно привлекать ребенка к тебе.
– Ах, как бы я хотел тебе верить, – проговорил Рауль, глубоко вздыхая. – Хорошо, последую твоему совету и буду молчать, но счастье ко мне тем не менее не вернется, оно разрушено. Неодолимая преграда стала между мной и моей женой, всегда рассеянной и равнодушной. А так как я знаю, о ком она задумывается, то и я избегаю ее, ища любви вне супружества и чувствуя себя везде лучше, чем дома.
– Нет-нет, Рауль! Обещай мне бросить любовные похождения, которые могут погубить тебя. Старайся, напротив, примириться с женой и привлечь ее к себе, невзирая на неудовлетворенную любовь, ища спокойствия в честной мирной жизни и в исполнении своего долга. Затем навещай меня как можно чаще. Видеть тебя теперь – мое единственное счастье, и я чувствую, что недолго буду им пользоваться. Твой отец зовет меня к себе, силы мои слабеют с каждым днем, и я знаю, что дни мои сочтены.
– Матушка, не говорите о разлуке. Что станется со мной, одиноким, покинутым, никем не любимым, – воскликнул вне себя Рауль. – Нет, нет, ты не можешь, ты не должна умирать, а я не в силах перенести потери всего разом.
Испуганная отчаянием сына, княгиня откинулась, бледная, на подушки, а Рауль бросился к ней:
– Тебе худо?
– Нет, дитя мое, но горе твое при мысли о разлуке сильно взволновало меня. Если бы от меня зависело, разве я покинула бы тебя? Успокойся, дитя мое, мы должны покориться воле Создателя. Впрочем, смерть не есть разлука навеки; душа, отделившись от тела, начинает жить иной жизнью, и моя любовь переживет мое бренное тело. Я буду с тобой, буду видеть тебя, и, может быть, ты будешь это знать и чувствовать.
Рауль слушал молча. Он снова сел на табурет и спрятал голову в колени матери. При последних словах он выпрямился и горько сказал:
– Чтобы утешить меня, ты хочешь заставить меня верить невозможному. Никогда никто из отошедших не возвращался на землю, чтобы словом ласки смягчить скорбь покинутых или дать им добрый совет.
Княгиня выпрямилась, и выражение торжественной важности озарило ее лицо.
– Я непоколебимо уверена в том, что тебе сказала. Теперь настал момент сообщить тебе о случае, доказавшем мне, что наши дорогие отошедшие находятся близ нас и могут иногда входить с нами в контакт.
Помолчав с минуту, она продолжала:
– Ты знаешь, как я любила твоего отца. Его смерть едва не свела меня с ума. В отчаянии я отреклась от жизни и света, забыла тебя в моей эгоистической скорби. Я проводила целые дни в молельне, обтянутой черным сукном. Там, сидя в кресле, я не сводила глаз с портрета твоего отца, на котором он снят во весь рост. Так сидела я однажды вечером. Висячая лампа освещала молельню. Я более чем когда-либо чувствовала себя одинокой, несчастной, слезы душили меня, и я закрыла лицо руками. Глухой, но ясный треск заставил меня вздрогнуть и поднять голову. Я с удивлением заметила, что беловатое блестящее облачко расстилается перед портретом. Минуту спустя оно рассеялось и твой отец, словно выйдя из рамы, приблизился ко мне. Я оцепенела и не могла шевельнуться. Но глаза мои не обманывали меня: то был живой Амедей. Его прекрасные оживленные глаза с любовью и грустью смотрели на меня. Протянув ко мне руки и наклонясь ко мне, он сказал: «Дорогая Одилия, смерть есть лишь переход от одной жизни к другой. Тело разрушено, но любовь не умирает, как не умирает и душа. Я близ тебя, и твои слезы, твое непомерное отчаяние заставляют меня страдать. Я оставил тебе Рауля, посвяти ему себя, живи для него, и ты воскреснешь, если не для счастья, то для святого исполнения долга матери!»

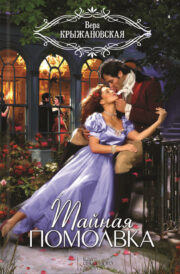
"Тайная помолвка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Тайная помолвка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Тайная помолвка" друзьям в соцсетях.