Дрожа от счастья, я ловила каждый звук милого голоса, которого не слышала уже несколько месяцев. Но вдруг видение стало бледнеть, расплываться и как бы исчезло в раме. Вскочив, как безумная, я с криком отчаяния бросилась к твоему отцу, чтобы удержать его, но мои руки уперлись в полотно. В отчаянии я еле дотащилась до аналоя и упала перед ним на колени. Но каково было мое удивление, когда у подножия креста я увидела раскрытый листок бумаги, в котором почерком твоего отца были написаны те самые слова, которые он только что произнес. Я не могла сомневаться в том, что милосердие Божье приподняло меня над завесой, скрывающей от нас невидимый мир, и слышала одно из тех живых существ, которых не может видеть наше грубое зрение. Я пала ниц и благодарила Бога. Никогда никому я не говорила об этом случае. Мне казалось, что сомнение, недоверчивая улыбка осквернят эту тайну. А теперь я покажу тебе эту записку, которую ношу уже девятнадцать лет.
Княгиня вынула медальон, висевший на золотой цепочке и спрятанный на груди, и достала из него сложенную бумажку, пожелтевшую от времени, на которой карандашом были написаны приведенные выше слова. Рауль с благоговением рассматривал записку.
– Я верю тебе, матушка, – сказал он, целуя руку матери, – и постараюсь найти в этом убеждении некоторое утешение в скорби, которая меня ожидает. Согласно твоему желанию, я готов верить в невиновность Валерии и искать сближения с ней. Я прощаю ей оскорбление, которое она нанесла моей любви, произнося ложную клятву у алтаря.
Князь вернулся домой, самым искренним образом расположенный к примирению. Но зло, раз допущенное, трудно исправить.
Когда Валерия пришла в себя, первой ее мыслью было уехать от мужа, и только просьба Антуанетты ради чести семьи не прибегать к огласке заставила ее отказаться от своего намерения. Но оскорбленная до глубины души, она была холодно-сдержанна с Раулем, удалилась от ребенка и, замкнувшись в самой себе, казалось, не замечала ничего окружающего. Лишь старушке княгине она выказала самую нежную дочернюю привязанность – окружала ее заботами и предупредительностью. И княгиня часто спрашивала себя, всматриваясь в ее бледное лицо, в ее ясные глаза, как зеркало отражавшие чистую душу, возможно ли, чтобы это все служило маской?
Видя, что его попытка к примирению отвергнута, Рауль ограничился тем, что всматривался в Валерию, и порой ее дивная красота снова приобретала над ним свою силу. В такие минуты он упрекал себя, что поддался подозрению, но при взгляде на Амедея в нем воскресали подозрения и злоба. В охлаждении жены к своему ребенку он видел доказательство сознания позора и угрызений совести. Впрочем, все эти чувства утихали перед скорбью, которую он ощущал при мысли о близкой разлуке с матерью. Целые дни проводил он возле нее, ласками и заботами своими стараясь продлить ее жизнь.
Тяжелое предчувствие волновало между тем больную. Что будет с Раулем, если до смерти матери не произойдет благоприятной перемены в натянутых отношениях семьи? Что будет с Амедеем, если отвращение или равнодушие поселятся в сердце молодого отца? Куда мог увлечь князя его впечатлительный страстный характер, когда ее не будет, чтобы нежной рукой сдержать его порывы? В надежде предупредить всякие нежелательные случаи княгиня старалась сблизить молодых супругов, удерживая при себе Валерию и Амедея. Она думала, что таким образом, при явном и совершенно искреннем проявлении привязанности, она охранит мальчика от заброшенности в будущем, сохранит за ним одновременно привязанность Рауля, для которого было священно все, что любила его мать.
Так прошло лето. Но силы княгини явно убывали, и не было никаких надежд на продолжение жизни.
В одно прекрасное утро, в августе месяце, Рауль печальный и озабоченный гулял по саду в ожидании кареты, чтобы ехать к княгине. Он машинально сел на скамейку у фонтана и рассеянно взглянул на блестящую струю воды, падающую из пасти тритона, как вдруг внимание его было привлечено каким-то золотым предметом, видневшимся меж камней и ярко сверкавшим под лучами солнца. Рауль позвал садовника. Тот, не долго думая, прыгнул в бассейн и с большим трудом вытащил цепочку с медальоном, застрявшим между камней.
– Это золотая цепочка, ваша светлость, и на ней висит что-то, – удивленно сказал садовник и достал медальон.
Рауль очень обрадовался, увидев медальон Валерии, таинственно исчезнувший два года назад. Каким чудом эта вещь, которую он считал украденной лакеем, за что тот был прогнан, каким чудом она оказалась здесь? Князь пошел к себе в кабинет и заперся. Если действительно в медальоне не было ничего подозрительного, то он готов был поверить в правоту своей жены и сделать все, чтобы исправить свою ошибку и примириться с Валерией. Он готов был поверить, что лишь случай придал его сыну сходство с ненавистным евреем. Сидя у стола, он взглянул на стоявший перед ним и недавно снятый портрет Амедея. В этом личике ничто не напоминало его или Валерию, но это еще ничего не значит…
С лихорадочным волнением принялся он разглядывать медальон, потемневший от долгого пребывания в воде, слегка побледневший и несколько попорченный. Он продолжал ощупывать его со всех сторон, но не находил ничего. Медальон казался целым. Однако его подозрительность была возбуждена. Он взял перочинный нож и стал так сильно нажимать обратную сторону медальона, что коснулся, вероятно, потайной пружины. Открылось дно медальона, и в нем оказалась с одной стороны прядь волос, с другой стороны миниатюрный портрет. Глухой стон вырвался из груди Рауля: он увидел энергичное красивое лицо и большие черные глаза Самуила Мейера. Не оставалось никакого сомнения: он был гнусным образом обманут и обесчещен. Сравнение портрета Амедея с портретом медальона уничтожило всякие иллюзии. Оба лица были схожи черта в черту. Ребенок, которого он считал своим, оказался сыном еврея, и он был не властен отречься от него, лишить его похищенного имени. В душе Рауля поднималась буря, а безумная жажда мщения внушала ему мысль требовать себе право отвергнуть жену и ребенка на основании предательского сходства.
– Что надо? – спросил он лакея, который появился в дверях кабинета.
– Княгиня чувствует себя очень худо и просит вашу светлость пожаловать как можно скорей. Сейчас приехал посланный от вашей матушки.
Рауль спрятал медальон в карман и как безумный бросился в карету.
Несмотря на всю свою слабость, княгиня по лицу вошедшего сына заметила, что в жизни его произошло нечто важное и что при всем старании сохранить внешнее спокойствие в нем проглядывала душевная мука.
Сердечная материнская тревога мгновенно возбудила силы умирающей, и движением руки она удалила всех из комнаты.
– Дитя мое дорогое, я вижу по твоему лицу, что ты только что вынес сильное потрясение, – сказала она слабым голосом, пожимая руку сына. – Пока я еще могу слышать тебя и давать тебе советы, скажи мне все, что гнетет твое сердце.
Эти слова рассеяли мнимое спокойствие Рауля, и, спрятав лицо в подушках ее постели, он разразился судорожными рыданиями, но через несколько минут после этого припадка отчаяния, сделав над собой усилие, он поднял голову и дрожащим, задыхающимся голосом сообщил о своем открытии и показал матери обличительный медальон. Со слезами на глазах смотрела княгиня на это неоспоримое доказательство измены.
– Что ты намерен теперь делать? – спросила она после минутного молчания.
– Что мне остается делать, если я желаю сберечь уважение к себе, как не привлечь ее к суду, – горько ответил он. – С помощью этого медальона я сумею лишить эту бесчестную женщину права носить мое имя.
Княгиня выпрямилась.
– Рауль, если ты меня любишь, если не хочешь отравить мне последние минуты, ты этого не сделаешь! – с лихорадочным беспокойством сказала княгиня. – Душа моя не будет иметь покоя в могиле, если вся эта грязь ляжет на наше незапятнанное имя. Да и захочешь ли ты запятнать честь старого графа Маркош, Антуанетты и ее мужа? Конечно, ты не можешь жить с Валерией, так разойдись с ней без огласки, не бесславя перед светом ни ее, ни ребенка, неповинного в преступлении. Дитя мое дорогое! Я понимаю твои мучения, но тем не менее умоляю тебя, предоставь месть Богу, прости, как Христос простил врагам своим, и милосердие Господне дарует тебе спокойствие и забвение.
Бледное прозрачное лицо больной слегка оживилось, ее большие глаза горели лихорадочным блеском, были с мольбой устремлены на Рауля. Сняв со своей шеи крест и медальон с таинственной записью, она произнесла нежным, слабеющим голосом:
– Можешь ли ты на этом кресте поклясться умирающей матери, что никогда не сделаешь подобного скандала?
Растроганный, побежденный ее взглядом и голосом, Рауль опустился на колени и прижал к губам крест и холодеющие руки, которые держали его.
– Как ни тяжело мне это требование, но твоя последняя воля для меня священна. Из любви к тебе я клянусь этим крестом и памятью моего отца, что буду молча нести мой позор, никогда не разведусь с Валерией и не отвергну ребенка.
Луч радости озарил лицо княгини.
– Да благословит тебя Бог, как я благословляю тебя, сын мой, за твою любовь и повиновение, а внутренний голос шепчет мне, что все выяснится и ты снова будешь счастлив. Теперь… – Она вдруг замолчала, силы ее внезапно ослабели, и она упала на подушки.
На крик князя в комнату вбежали старая лектриса и горничная, а вслед за ними вошел священник, приехавший по желанию больной. Взглянув на княгиню, священник опустился на колени и стал читать отходную. Припав головой к постели умирающей, Рауль, казалось, ничего не видел и не слышал.
Прикосновение руки к его плечу вывело его из оцепенения.
– Встаньте, сын мой, мать ваша избавилась от земных страданий, и ее праведная душа обрела вечный покой в селениях праведных.
Князь встал, он был так же бледен, как покойница, но глаза его были сухи.
Он наклонился над застывшим лицом той, которая беспредельно его любила, и, взглянув на крест в костенеющих руках усопшей, осторожно вынул его и надел на себя.
«Ты будешь напоминать мне мою клятву», – подумал он, благоговейно поцеловав холодные уста княгини.
Затем с удивительным спокойствием Рауль сделал все необходимые распоряжения.
Все знали, что он боготворил свою мать, и ожидали взрыва горя, а потому это наружное спокойствие, бледное бесстрастное лицо и воспаленные сухие глаза возбудили общее удивление и некоторые опасения. Заметили также, что Рауль тщательно избегал жены и во все время погребальной церемонии не обмолвился с нею ни единым словом.
С момента смерти матери князь не ступил ногой в свой дом и все время находился возле гроба, а на то время, когда родные и знакомые приходили поклониться праху покойной, он запирался в комнате матери. Лишь после погребения подошел он к Антуанетте, прося ее передать графу Маркош, а также Рудольфу и Валерии, что ему нужно переговорить с ними о важном деле и что он просит их собраться завтра в час пополудни в кабинете, куда и он прибудет, так как до той поры, весь этот день и всю ночь, он желает провести в комнате усопшей.
На следующий день Валерия и Антуанетта пришли первые в указанную комнату. Княгиня чувствовала себя нехорошо, имела расстроенный вид, и траур еще резче оттенял ее бледность.
– Я предчувствую горе, – говорила она. – Рауль такой странный, он так изменился.
Антуанетта ничего не ответила и с глубокой нежностью обняла ее. Тяжелое предчувствие сжимало ей сердце, но она старалась дать этому предчувствию определенную форму. Вскоре вошли Рудольф со своим отцом. Молодой человек был бледен. Молча и с недоверием глядел он на сестру. Один старый граф был спокоен, как всегда.
– Не знаю, какая муха укусила Рауля, – говорил он, садясь. – Что значат все его странности и его трагический вид? Это для меня тайна. Отчаяние его естественно, он так любил свою мать, но тем не менее покидать из-за этого свой дом, жену, ребенка… Это преувеличение. И что это за таинственное совещание, на которое он нас всех созвал? Ничего не понимаю.
– Сейчас все узнаем, – ответил Рудольф, прислушиваясь, – вот подъехала его карета.
Минуту спустя вошел бледный Рауль.
– Успокойся, друг мой, – сказал старый граф, дружески пожимая ему руку. – Мы бессильны перед законом природы. Но скажи, зачем ты нас собрал?
Князь оперся о стол и с минуту молчал.
– Я собрал вас, – начал он наконец, – чтобы вы были судьями оскорбления, нанесенного мне Валерией. Я ставлю ее перед семейным судом, так как клятва, данная мною покойной матери, не позволяет мне публично отвергнуть преступную жену, которая дерзнула прикрыть моим честным именем ребенка, прижитого с евреем.
Глухое восклицание вырвалось из груди Валерии. Рудольф побледнел и отшатнулся, а старый граф вскочил с места.
– Это клевета! Где доказательства такого невероятного обвинения?
– Взгляните на вашу дочь. Разве виновность не написана на ее лице? – сказал Рауль, дерзко смеясь и рукой указывая на бледное как смерть лицо Валерии, которая, чтобы не упасть, ухватилась за спинку кресла. – Впрочем, я имею доказательства более существенные. От меня скрыли многие обстоятельства, предшествовавшие моему супружеству, но вам, отец, я не ставлю это в упрек. Я вас понимаю и нахожу естественным, что такой кровный аристократ, как вы, предпочел иметь зятя дворянина, а не еврея. Но для Валерии нет извинений, она обманула меня, выходя за меня замуж. До ее отъезда в Италию я откровенно спросил ее, не жалеет ли она своего прежнего жениха. Она сказала мне «нет»! И несмотря на это не постыдилась, едва вытащенная из пруда, вырвавшись только что из объятий своего любовника, протянуть мне свою руку, принести ложную клятву перед алтарем и выдать ребенка банкира за моего сына.

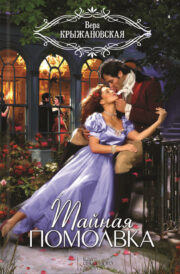
"Тайная помолвка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Тайная помолвка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Тайная помолвка" друзьям в соцсетях.