– Пожалуйста, Антония, дорогая моя, не подходи. А лучше уйди совсем.
Я заплакала. В слабом свете фонаря на стене глазам моим открылось ужасающее зрелище. Кожа у Джозефы стала какого-то синюшно-лилового цвета и вся покрылась волдырями. Лицо ее отекло и покраснело, щеки гротескно раздулись, а из носа текла кровь. Белки глаз были испещрены красными прожилками.
– Я люблю тебя, – сквозь слезы пролепетала я. – Я молюсь за тебя.
Опуская на пол корзинку, я подумала, что, наверное, вся еда, которую я принесла, достанется крысам, которых должно быть здесь множество. Но потом мне пришло в голову, что ужасный запах, стоящий в этой комнате, способен отпугнуть даже крыс.
– Я очень хочу пить, – долетел до меня слабый голос с кровати.
Я достала из корзины бутылку вина, которую принесла с собой, и поставила ее рядом с кроватью Джозефы. С большим трудом сестра приподнялась на локте, взяла бутылку и принялась пить. Я видела, что и глотать ей тоже больно.
– Ох, Антония, – вздохнула она, отставляя бутылку в сторону, – мне снятся кошмарные сны! С небес сходит огонь, сжигающий всех нас. Мне снится мама, она вся в огне, и страшно кричит при этом. А отец стоит в стороне и смеется, глядя, как мы заживо сгораем в пламени.
– Это болезнь посылает тебе такие сны. Мы все в безопасности, живы и здоровы, и никакого огня нет.
«Но на самом деле он есть», – про себя подумала я. – «Оспа принесла с собой неугасимый огонь, поэтому Джозефа горит в лихорадке и сходит с ума».
– Ты должна принимать лекарство. Ты поправишься, вот увидишь.
– Сестры милосердия дают мне бренди и валериану, но это не помогает. Я знаю, что они уже махнули на меня рукой.
– Зато я не отрекусь от тебя и не забуду. Обещаю, я еще вернусь.
– Нет. Не приходи больше. Сюда никто не должен приходить.
Голос у нее становился все слабее и слабее. Ее клонило в сон.
– Антония, милая…
По щекам у меня ручьем текли слезы, но я знала, что здесь более нельзя оставаться. Иначе меня могут хватиться. Никто не знал, куда я пошла. Я не сказала об этом даже Карлотте, с которой делила спальню.
Итак, я оставила Джозефу, снова поднялась по темным ступенькам, прошла по коридору старой школы и вернулась по залитому светом факелов двору во дворец.
На следующий день я была с матерью в ее покоях, когда явился доктор Ван Свитен, чтобы засвидетельствовать свое почтение императрице. Здесь же, с нами, находился и мой брат Иосиф. Ему уже сравнялось двадцать шесть, и недавно он похоронил свою вторую супругу. С тех пор как умер наш отец, мать начала привлекать Иосифа к управлению своими обширными территориями. После ее смерти императором станет Иосиф, поэтому ему нужно учиться искусству управления. Уже теперь он проявляет твердость, которая, по словам матушки, необходима всем государям. Но однажды я случайно услышала, как она призналась графу Хефенхюллеру, что Иосиф начисто лишен сострадания и жалости к людям и что ему придется научиться этим качествам, если он хочет стать мудрым правителем для своих подданных.
– Что с Джозефой? – обратилась с вопросом к доктору моя мать после того, как тот поклонился и пробормотал: «Ваше императорское величество».
– У нее черная оспа.
Я заметила, что мать смертельно побледнела, а Иосиф отвернулся. Черная оспа была самой тяжелой разновидностью коровьей оспы. Все, заболевшие ею, умирали. Когда в Вене отмечались случаи заболевания черной оспой, нас, детей, всегда увозили в деревню, чтобы мы не заразились. Слуг, заболевших черной оспой, немедленно изгоняли из дворца и старались отослать куда-нибудь в глушь. Никто из них никогда не возвращался обратно. А теперь от этой страшной болезни умирала моя сестра Джозефа.
– Зрелище поистине ужасающее, – говорил между тем доктор. – Мне уже приходилось наблюдать подобную картину и раньше. Как только становится ясно, что у больного оспа, дальнейшая борьба за его жизнь бесполезна. Спасти эрцгерцогиню невозможно. Она может лишь заразить остальных.
– Она получает необходимый уход? – слышу я вопрос матери, адресованный доктору.
– Разумеется. Ее навещают сестры милосердия и работницы молочной фермы.
Все хорошо знали, что доярки-молочницы не болеют коровьей оспой. По какой-то причине они могли ухаживать за больными, не боясь заразиться и не подвергая риску собственное здоровье.
– Никто не должен знать, где она, – глухим, низким голосом изрек Иосиф. – Никто при дворе не должен приближаться к ней. Мы не можем допустить новой вспышки паники, подобной той, которая случилась прошлым летом.
Стоило кому-нибудь где-нибудь заболеть, как тут же начиналась паника. В прошлый раз страх охватил весь город. Люди отчаянно старались уехать подальше, чтобы не заразиться. На улицах началась давка, и многие горожане были просто затоптаны насмерть.
Никому не хотелось, чтобы паника из-за оспы проникла во дворец, где, составляя двор ее императорского величества, бок о бок жили сотни слуг и придворных.
– Это понятно, – отозвался доктор Ван Свитен. – Эрцгерцогиня содержится там, где ее никто не найдет.
Я уже открываю рот, чтобы возразить, но вовремя успеваю прикусить язык. Стоя рядом с матерью, я слышу, как шуршат ее юбки черного шелка, и понимаю, что она дрожит.
– Я больше не могу позволить себе терять детей, – говорит она. – Сначала мой дорогой Карл, потом Иоганна, которой было всего одиннадцать, когда она умерла, бедняжка. А теперь еще и Джозефа, такая молодая. Она ведь собиралась замуж…
– У вас, матушка, нас осталось еще десятеро. – В голосе Иосифа явственно слышится недовольство.
Он знает, что, несмотря на то что он старший сын и наследник престола, мать всегда предпочитала ему Карла, который был ее любимчиком.
– Десять детей – на мой взгляд, вполне достаточно.
Я очень привязана к Иосифу, но он не понимает, что значит любить кого-то. Когда четыре года назад умер наш отец, брат не проронил ни слезинки, только презрительно фыркал, глядя на нас.
– Он был законченным бездельником и тунеядцем, окруженный толпой таких же прихлебателей, – услышала я однажды его слова.
Иосиф даже отказался возложить венок на могилу отца, хотя на похоронах и предложил матери руку, чтобы та могла на нее опереться.
Иосифу уже двадцать шесть, и он был женат два раза. Впрочем, он ничуть не скорбел ни об одной из своих жен, когда они умерли, ни о бедном мертвом малютке, которого родила ему первая жена. Мне нелегко понять Иосифа.
– Сколько она еще проживет? – спросил Иосиф у Ван Свитена.
– Не более нескольких дней.
– Когда она умрет, распорядитесь, чтобы тело как можно быстрее увезли из дворца. Не нужно сообщать о ее смерти. Ее отсутствия никто не заметит. Одной дочерью больше или меньше…
– Иосиф! Довольно. – Голос матери звучит твердо, но я различаю в нем нотки паники.
Но мой брат, раздосадованный происходящим, не желает молчать.
– И еще я хочу, чтобы тело сожгли. Вместе со всей одеждой и прочими вещами.
– Довольно! Ты ведешь себя не по-христиански. Я никогда не допущу подобного надругательства. Ты забываешься.
– Какая сентиментальная глупость! – доносится до меня бормотание Иосифа. – Как можно верить в то, что в один прекрасный день мертвые восстанут из могил и вернутся к жизни. Все это жалкие сказки, выдуманные священниками.
– Мы поступим так, как учит нас святая церковь, – негромко говорит мать. – Мы не сектанты и не дикари-язычники. Кроме того, Джозефа еще жива. И пока она не умерла, у нас остается надежда. Сейчас я удаляюсь в часовню, чтобы помолиться за нее. И советую всем поступить так же. – Доктору она сказала: – Я хочу, чтобы мне незамедлительно сообщали обо всех изменениях в ее состоянии.
Я больше не могу молчать.
– Ох, мама, она так ужасно переменилась. Ты бы не поверила, если бы увидела ее! – По лицу моему текут слезы, когда я выкрикиваю эти слова.
Мать молча и сурово смотрит на меня. Иосиф тоже испепеляет меня яростным взглядом. Доктор Ван Свитен попятился, он испуган до смерти.
– Будь добра, Антония, объяснись, – спокойно повелела мать.
– Я видела ее. Она вся распухла, стала черно-синего цвета, и от нее отвратительно пахнет. А они держат ее в какой-то темной крысиной норе под старым зданием школы верховой езды, куда никто не ходит. – Я взглянула матери прямо в глаза. – Она умирает, мамочка. Она умирает.
Вместо того чтобы обнять и прижать меня к себе, как я ожидала, мать сделала несколько шагов в сторону, так что до меня больше не долетал знакомый ее запах, чудесная смесь чернил и розовой воды.
– Вам лучше удалиться, – обратился доктор Ван Свитен к моей матери и Иосифу, которые поспешили отойти от меня еще на несколько шагов. – Я позабочусь о ней. За девочкой будут наблюдать на случай, если у нее появятся симптомы черной оспы. – Он сделал рукой знак одному из ливрейных лакеев, в ожидании приказаний стоявших у дальней стены большой комнаты. – Немедленно пошлите за моим помощником. И молочницами.
Меня отвели в старую казарму дворцовой стражи и оставили там под присмотром двух деревенских женщин – одной молодой, а второй, наоборот, очень старой. Меня держали взаперти до тех пор, пока доктор не убедился, что я не подхватила заразу от сестры. У меня отобрали всю одежду и сожгли, а Софи взамен прислала мне новую. Когда я надевала платье, из кармашка выпала записка. Она была от Карлотты.
«Милая моя Антуанетта, – писала она, – ты выказала недюжинную храбрость, когда отправилась навестить Джозефу. Здесь все уже знают о твоем поступке. Мы должны делать вид, будто не одобряем его, но в душе восторгаемся тобой. От всего сердца надеюсь, что ты не заболеешь. Иосиф в ярости. Я люблю тебя».
3 июля 1769 года.
Я решила не показывать свой дневник отцу Куниберту. Он будет только моим. Это будет летопись моей жизни, и больше ничьей.
За последние педели со мной произошло столько всяких разностей. Мне не разрешили больше видеться с Джозефой, которая умерла на третий день после того, как я спустилась к ней в подвал. Я пытаюсь не думать о том, как много ей пришлось выстрадать. Но я знаю, что никогда не смогу забыть того, как она выглядела, лежа на узкой кровати в кишащей крысами норе.
Отец Куниберт говорит, что я должна задуматься о проявленном самовольстве и непослушании, а потом молить Господа о прощении. Он говорит, что я должна быть благодарна за то, что осталась жива. Но я испытываю не благодарность, а одну только печаль. Мне не разрешили присутствовать на краткой панихиде по Джозефе, потому что молочницы все еще наблюдали за мной. Каждое утро и каждый вечер они осматривали мои лицо и руки в поисках волдырей, а потом переглядывались, качали головами и о чем-то негромко перешептывались.
А я размышляла о смерти и о том, что Джозефа прожила на свете всего лишь семнадцать лет, а это так мало! Почему одни умирают, а другие живут? Я более не могу писать об этом, меня душат слезы и тоска.
15 июля 1769 года.
Наконец доктор Ван Свитен позволил мне возвратиться в апартаменты, в которых я живу вместе с Карлоттой. У меня нет коровьей оспы.
28 июля 1769 года.
Сегодня утром Софи разбудила меня непривычно рано и одела с особой тщательностью. Я спросила у нее, что это значит, но она не ответила. Однако я поняла, что причина должна быть очень важной, когда увидела, что она достала мое бальное платье светло-голубого шелка с оторочкой из парчовой ткани и вышитыми по корсажу розочками.
Она причесала мои волосы, собрала их на затылке, открыв уши, а потом велела надеть серебристо-седой парик. Он очень шел мне. В нем я выглядела совсем взрослой, особенно когда Софи украсила его жемчугами.
Мне всегда говорили, что я очень похожа на отца, который был исключительно красивым мужчиной. Как и у него, у меня высокий лоб и широко расставленные большие глаза. Впрочем, они у меня голубые, как у матери, и той очень нравится, когда я одеваюсь в голубое, чтобы оттенить их цвет. По тому, как Софи наряжала меня, я заключила, что она осталась довольна произведенным эффектом. Занимаясь мной, она что-то напевала себе под нос и все время улыбалась. Софи стала моей камеристкой с тех пор, как мне исполнилось семь лет, и она знает меня лучше кого бы то ни было, даже лучше матери и Карлотты.
Когда я была готова, меня отвели в большую залу для приемов, где уже находилась матушка. С ней были двое мужчин, и они пристально разглядывали меня, как только я вошла и остановилась рядом с матерью.
– Антония, дорогая моя, это принц Кауниц, а это герцог де Шуазель.
Оба мужчины поклонились мне, и я, ощущая непривычную тяжесть парика, тоже наклонила голову в знак приветствия. Вперед вышел мой учитель танцев месье Новерр и подал придворным музыкантам знак играть. Зазвучала музыка, и он прошел со мной сначала тур полонеза, а потом аллеманда, и все это время господа внимательно наблюдали за нами. Принесли мою арфу, и я сыграла несколько незатейливых мелодий (меня трудно назвать искушенным музыкантом), после чего спела арию герра Глюка, который учил меня играть на клавикордах, когда я была совсем еще маленькой.

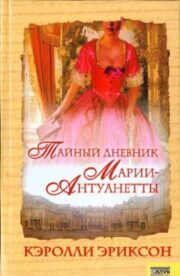
"Тайный дневник Марии-Антуанетты" отзывы
Отзывы читателей о книге "Тайный дневник Марии-Антуанетты". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Тайный дневник Марии-Антуанетты" друзьям в соцсетях.