— В смысле?
— В смысле способности к деторождению. Благоприятствует?
Я не успевала отвечать, я не успевала радоваться или сердиться. Шквал под именем Александр Виноградов, наглый, жестокий в своем вечном эгоцентризме и тем не менее неотразимый, смял не только наивную и трепетную Варьку, но и умную, осмотрительную в отношениях с нашим ближайшим родственником и достаточно — чтобы не терять контроля до конца! — достаточно бестрепетную меня.
— Что вам благоприятствует, нам препятствует, — сказала я и не сбросила его руки, которыми он обхватил мои лодыжки и плавно поскользил наверх.
— Не слышу ничего. — Александр Виноградов изловчился и одним движением сам переместился в наше огромное кресло и перенес туда меня. — Бедная девочка уснула на полу. — Он кивнул на успевшую разметаться во сне Варьку и посадил меня к себе на живот. — Я не понял, что вы сказали? День благоприятствует зачатию Максима Виноградова или нет?
— Благоприятствует, — ответила та дура, которую моя мама назвала при рождении Елена, что у древних греков означало — «сверкающая».
Сверкающая дура.
Я такая, какой была всегда. Чего ты не мог вытерпеть? Что нового ты узнал обо мне — такого, чего не знал раньше? Что такого, с чем нельзя жить? Я не зануда, я не хулиганка (не бросаюсь ботинками, кастрюлями, почти не ругаюсь, даже матом). Я могу страшно наругать Варьку, но ты не слышал этого ни-ког-да. Ведь правда?
Я не грязнуля, не лентяйка, не ханжа и не чудачка. Я не алкоголичка, не потаскуха, я даже не пью водку, потому что плохо себя чувствую от спиртного, и уже восемь лет не курю и не собираюсь, потому что боюсь, что это будет вредно для моей дочки.
Да, я трепала тебе нервы. А разве ты не знал, что у меня не самый лучший характер? Разве ты этого не знал лет десять по меньшей мере? Что я не понимаю преимуществ гражданского брака…
Да, я тебя ревновала — интеллигентно, — когда видела волосы разного цвета у тебя в ванной. Женские (надеюсь, что только женские), длинные и короткие волосы, прилипшие к раковине — каштановые, рыжие, крашеные, протравленные химией, двуцветные, зеленые… Ты раздраженно говорил: «Где ты их только находишь? Это же домработница моя, Марина, все перекрашивается…»
Да, я не всегда верила твоим внезапным отлучкам и командировкам, иногда не совсем вовремя звонила на работу со своими упреками и слезами.
Основной формой моего протеста был уход. Я собирала вещи и уходила — с твоей дачи, из твоей холостяцкой квартиры, в которой по углам были затолкнуты узелки и пакеты с Варькиными запасными колготками и моими шелковыми ночными рубашонками. Наверно, надо было однажды кинуть в тебя кастрюлей со свежесваренными щами. Нет, лучше с борщом. А я уходила. Молча. Раза четыре за все эти годы. И если ты не бежал вслед — что бывало, но не регулярно, то через пару дней или пару недель — по степени обиды — очухивалась, думала-думала-думала и приходила к выводу, что виновата сама. Если ты и дальше не делал попыток меня вернуть, то вывод был — виновата сама во всем. И приходила обратно.
Но если бы я всего этого не делала, если бы я хоть как-то не протестовала, я бы просто не дожила до своих лет, — ангелы так долго не живут — то есть не задерживаются на земле. Я не была ангелом, я многое делала неправильно. Но я давала тебе столько любви, надежности, верности — больше для одного человека просто не бывает.
Я всегда принимала тебя — после всех твоих измен и долгих разлук. Прощала и почти не упрекала. Я понимала, как горько и страшно мужчине стареть — ничуть не менее страшно, чем женщине. А может, и более. Ведь никакая пластическая операция не заставит работать орудие воспроизводства, если оно уже отказывается служить как прежде.
Я жалела и уважала тебя, я восхищалась тобой больше, чем ты этого заслуживал. Я знала все твои слабости и старалась, несмотря на них, видеть в тебе сильного мужчину. Я преувеличивала сама и обращала внимание окружающих на твои сильные стороны — такие немногочисленные. Я считала твою скупость бережливостью, твою трусость — осторожностью, циничность — остроумием, а похотливость, развращенность и неразборчивость называла активным стремлением природы к воспроизводству с помощью тебя, любимого множеством женщин, природой и судьбой.
Я любила тебя, тебя одного всю свою сознательную жизнь. И я смирилась с мыслью, что никогда не буду с тобой вместе жить. А потом с таким трудом поверила, что — буду.
Похоже на панегирик, правда?
Я оторвалась от монитора — там легкое начало статьи о прекрасном актере «Современника» буксовало о третью строчку, и взглянула на упрямо бурчащий телефон. Саша. Александр Виноградов. Трубку снимать не надо, потому что больно.
— Алё, — вздохнула я.
— Надо бы деньги дочке передать. Как вообще дела?
А почему у тебя такой мерзкий голос?! — хотелось крикнуть мне. Почему?! Разве это тебе сделали плохо? Разве тебе сейчас больно, невыносимо больно?
— Передай, — ответила я. — Дела — плохо.
— А-а-ах… — Александр Виноградов зевнул. — Почему?
Потому что ты мне сердце разорвал, жизнь всю перекурочил, девчонку мою трепетную и нежную, Варю, росшую с отцом и без отца, так бесконечно тебя любящую, обманул — опять! Поэтому — все плохо! Очень плохо!
— Пришли шофера с деньгами.
— Ага, — отозвался Виноградов и отключился, собака.
Женщины, дорогие женщины!.. — могла бы сказать я. Не доверяйте мужчинам своих детей, своих сердец и своих единственных жизней! Любите их чуть больше, чем салат с крабами и хорошее французское вино, но меньше, чем весеннее утро, чем выращенные вами (и даже не вами) цветы, и гораздо меньше, чем неумелые рисунки ваших детей и глаза ваших неумолимо готовящихся к уходу матерей.
Я бы имела право это сказать, если бы я сама…
Сверкающая дура, одним словом.
Это было в первый месяц после судьбоносного предложения Александра Виноградова стать моим мужем. Весь месяц он трогательно справлялся о целесообразности интимных отношений с точки зрения продолжения рода — его рода, — при этом оставался в своих желаниях романтично-нежен и изящно-извращен, как всегда. Потом подошло время завершения «лунного цикла». Я была беременна — знала, чувствовала, была уверена я. И он тоже. Ведь он старался! Он вкладывал в это любовь и нежность, он отдавал себя!
— Да… А я так старался…
На Александра Виноградова жаль было смотреть, когда в магазине на его глазах я купила упаковку тампаксов.
— Мне очень жаль… — почти искренне сказала я.
Хотя, если честно, в первый месяц я вздохнула с облегчением. Потому что мне не давала покоя мысль о том, что я слишком многим рискую, решаясь на это.
— Саша, ну я не могу так, давай хотя бы обвенчаемся… Все-таки второй ребенок…
— Вот так вот смело, да? — ответил мне Александр Виноградов, не боясь, что я не пущу его в следующий раз. Но ночью того же дня пообещал мне: — Ленка… Ну приду я к тебе, как положено, с букетом белых роз и сделаю тебе предложение, только ты не торопи меня, ладно?
— Ладно, — ответила я и почувствовала: вот оно, долгожданное. Я так много лет этого ждала. И никто не понимал почему. Теперь я знаю точно — я свое счастье выстрадала, я его не разменяла ни с кем другим, и я — дождалась.
Когда я не забеременела на второй месяц, Александр Виноградов рассердился и временно нас покинул. Я плакала, Варька плакала, как обычно, вместе со мной, не зная, отчего я плачу.
Я ходила с опухшими, надутыми веками, и каждое зеркало мне напоминало: «Вот такая беда с тобой приключилась, вот такая гадость и несчастье в одном лице. В том самом ненаглядном когда-то лице, ускользавшем от тебя столько лет и наконец так ловко ускользнувшем».
Потом я сделала над собой усилие, закончила просроченную, но очень удачную статью о Большом театре, заработав две копейки, которые потратила, не доходя до дома. А через пару дней получила дорогой заказ от почти приличного мужского журнала «Русский размер». Мне предложили написать об известном драматическом актере лирическую белиберду, не имеющую никакого отношения к его настоящей жизни.
Я увлеклась этим заказом, потому что люблю трогательного Женю Локтева с его смешным носом и фантастической способностью наполнять любые, самые пустые роли каким-то тонким, глубоким смыслом. И мне ужасно мешало смотреть фильмы и спектакли с ним то, что я о нем знала. И знали все.
Поэтому я с удовольствием наврала на пять страниц с фотографиями о его якобы существующей в природе жене, о его сугубо мужских пристрастиях и простой, не искалеченной славой и бессмысленной однополой любовью жизни. Я была довольна. Я сама почти поверила в то, что написала.
Женя пригласил меня на свой новый спектакль. После спектакля я с некоторым напряжением пошла с ним в ресторан, его же собственный. Дома меня ждала Варька, которая никогда не засыпает без того, чтобы не обнять мою руку всеми своими конечностями и не прижаться ко мне своей прекрасной нечесаной головой.
В ресторане мы сели на самое лучшее место, которое может занимать только сам Женя, его партнер, второй владелец ресторана, или же очень дорогие гости, — столик с видом на ночную Москву, на джаз-оркестр и на стенку, где, присмотревшись, в абстрактной мозаике можно было узнать знаменитый профиль Жени.
— Тебе действительно понравился спектакль? — спросил Женя.
— Мне понравился ты и еще эта молоденькая девочка. А спектакль — умная холодная схема, — ответила я и в этот момент увидела, как в зал вошел Александр Виноградов.
Он небрежно обвел глазами зал и пошел к столику около окна. Сев, он столкнулся глазами со мной. Секунду смотрел, оценивая моего спутника, потом сыграл все, что только мог: возмущение, удивление, восторг моим выбором, ужас от него же. Потом встал, чуть поклонился и опять сел. Я вздохнула.
— Скучно? — не так понял меня Женя. — Сейчас все принесут.
— Да нет. Просто там мой родственник сидит, кривляется. Мне стыдно за него.
Женя обернулся.
— А это, случайно, не тот банкир, которого недавно неудачно подстрелили?
— Тот. Только не подстрелили, а хотели украсть. Но довезли только до ближайшего поста ГИБДД, там похитителей и поймали.
— А, да-да, точно! А он еще по телевизору рассказывал, что у него вживленная в спину кнопка срочной связи с милицией. Это что, правда?
Я отмахнулась:
— Такая же правда, как то, что ты — мой любовник, к примеру.
Женя засмеялся, но я поняла, что из-за дурацкого появления Александра Виноградова я только что не очень ловко пошутила со звездой российского театра и кино. Александр Виноградов выпил рюмку текилы, нарочно по-хамски облизав соль с ее краев, и ушел, показав мне большой палец, только почему-то повернув при этом руку вниз. По-моему, этот жест означает в боксе «опустить партнера», то есть добить его, но что имел в виду наш с Варей родственник, я не поняла.
Зато отлично поняла его звонок на следующее утро.
— В семь за вами приедет Костя. Я жду вас в «Гнезде глухаря».
— Господи, а что я там забыла, в этом гнезде?
— Ты, может, и ничего, а я собираюсь послушать Трофима. В вашем присутствии.
Я заметила, что мои недавно и скоропостижно разбогатевшие соотечественники — еще ни разу не отсидевшие — нежно любят блатной и приблатненный фольклор, лагерные заунывные песни и тюремные частушки.
«Ты меня бросила, девочка милая, ведь за решеткой теперь до могилы я».
Почему любят? Готовятся? Боятся? Рады, что избежали? Что касается Александра Виноградова, то, замечая у него эту склонность, я злорадно радовалась: «А-а-а, вот и прокололся ты, псевдомосковский псевдоинтеллигент!» Уроженец деревни Марфино Московской области.
К слову, ничего плохого в деревне Марфино нет. Там вообще ничего уже нет. Там плотной кучей стоят дешевые новостройки, заселенные налетевшими в Москву жителями разоренных русским капитализмом маленьких провинциальных городов и семьями азербайджанцев, где про количество детей отец отвечает: «Пят… нет, шест… нет, шест у барата моего, у меня — пят!»
Все плохое и хорошее есть в Александре Виноградове. Плохое заставляет меня проклинать его четырнадцать лет, которые я его знаю. А хорошее — жить с ним все эти четырнадцать лет…
Глава 3
Когда я не забеременела на шестой и на седьмой раз, Александр Виноградов стал посмеиваться. Что является страшным знаком для всех, знающих его близко. Я занервничала. На восьмой месяц попыток пошла-таки к врачу. Милая врач Анна Васильна с некоторым подозрением спросила меня, сверяясь с лежащей перед ней карточкой:
— А-а… сколько, простите, Елена Витальевна, вам лет полных?

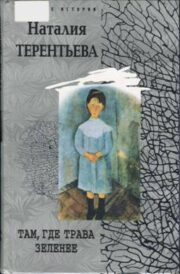
"Там, где трава зеленее" отзывы
Отзывы читателей о книге "Там, где трава зеленее". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Там, где трава зеленее" друзьям в соцсетях.