Перед уходом я написала записку на валявшемся в кухне журнале «Мой любимый сад»:
«Толя! Все-таки главное в мужчине не затылок, а честь, как бы немодно это ни прозвучало».
Перечитала, вырвала лист и запихнула его себе в карман.
Когда я спускалась в лифте, затренькал в сумке телефон на мотив популярной песенки, которую все время поет Варька. По-моему, ей нравится эта песня из-за строчки: «Я родителям врала, понима-а-ешь!» Я посмотрела на дисплей — звонил Анатолий Виноградов.
— Да, — сказала я.
Да, Толя, да. Я тебя видела. Да, мне понравилась твоя девушка. Да, она в сто раз лучше меня. В два раза моложе. У нее волосы цвета выжженной солнцем спелой ржи, вишневые губы и ясные серые глаза, никогда не видевшие гноя, желчи, блевотины и засохшей на подбородке у твоей пьяной подруги спермы твоего жениха…
Да, Толя Виноградов. Я — дура. Мне так всегда говорил Саша Виноградов. Я — доверчивая, неосмотрительная, не мыслящая себя без любви и без мужчины дура.
— Я сегодня пораньше приду, — сообщил Толя Виноградов теплым будничным голосом мужа.
— Да, — ответила я.
— Ты нормально съездила на киностудию?
— Да.
— Заплатили?
— Да.
— Ты хорошо себя чувствуешь, Ленуля?
«Ленуля»… — вот этой «Ленулей» он меня окончательно прибил к себе, гвоздиками. Меня никто и никогда так не называл за все тридцать восемь лет, что я мучаюсь на этой земле. Особенно если иметь в виду, что прежний Виноградов называл меня «Вама». Толя же произносил «Ленуля», и мне казалось, что в его рту перекатываются сладкие, ароматные лимонные леденцы, кругленькие, маленькие…
— Да, — с трудом ответила я и отключила телефон.
«Берега твоих губ — мой оберег», — напевал мне тут намедни влюбленный Толя Виноградов чужую сладострастную балладу. Да таких оберегов, как выяснилось, — пруд пруди! В любом киоске! Тридцать пять рублей за пару! Оберег!..
К черту! К едрене фене! К чертовой бабушке! Я швырнула телефон в полуоткрытую сумку, накинула пальто и вышла на улицу. Все, Толя Виноградов, ветеран неизвестной войны. Душа у него такая, что он мою душу, тоже такую, вот так хорошо понял. И на этой почве мы сошлись. Раз двести за истекший подотчетный период. Невзирая на объективные трудности, связанные с моим кенгуруподобным состоянием. Оно не помешало мне любить, верить, надеяться, терпеть и прощать. Ну, в общем, все как обычно. Как раньше.
Э-э, нет! Я даже остановилась. Вот насчет «прощать» — старые ошибки мы повторять не будем. Я столько раз прощала Виноградова, я так долго шла по этому пути, который моя мама в сердцах называет «славный путь Фиры Ландау»…
Я пошла неторопливо по направлению к Варькиной школе. Времени у меня было навалом, надо было чаю хотя бы дома выпить… Хотя сейчас — чем меньше жидкости, тем лучше… Три-четыре чашки в день. Полторы я уже выпила, не так много еще можно. Так что лучше потерплю. Попью, когда совсем невмоготу станет.
Я шла и вспоминала одну передачу. Ее вела довольно известная писательница, которую я очень не люблю за умничанье, искусственный русский язык и глубочайший скепсис. «Все так в мире кисло, господа, все так бессмысленно, все пошло и безрадостно. Зачем пишу? Чтобы вам стало так же кисло, как мне…» Когда я пробовала читать ее книжки, у меня было ощущение, что на меня наорала несчастная продавщица — не колбасы, нет, книжек или картин. Мне было ее жалко, продавщицу, я видела, что у нее или ранний климакс, или последний день перед началом месячных, я понимала, что она меня ненавидит просто так — я в орбите ее общей ненависти и дискомфорта. Но я еще несколько дней слышала ее слова — о том, какая я уродка, потому что зашла в этот магазин за тупыми книгами и проклятыми эстампами знаменитых картин…
На передачу была приглашена другая известнейшая писательница, которую я, наоборот, очень люблю, обожаю с детства за тонкие, смешные, чуть грустные фильмы, снятые по ее сценариям, за светлые, умные рассказы, у которых есть очень важное свойство — их хочется дочитать до конца и потом прочитать снова.
Ведущая все цеплялась к моей любимой писательнице — к ее личной жизни, к каким-то сомнительным эпизодам, о которых рассказывают сомнительные журналисты… Я все ждала, когда же любимая писательница, наконец, отбреет злую толстуху матом. Я сама лично слышала, как любимая ничтоже сумняшеся костерила по матушке редактора одного традиционного журнала, который последние десять лет отказывался по необъяснимым причинам публиковать ее рассказы. Но сейчас она отсмеивалась и все сводила разговор к покойной жене покойного Ландау.
Я знала давно, что жена знаменитого физика Ландау смирилась с тем, что горячо любимый и любящий муж не мог жить, не имея романов с другими женщинами. К старости дошло до того, что она провожала его на свидания, поправляла воротничок и расстраивалась, если девушка не приходила на свидание с ее мужем. Я это знала с детства. Это был один из невероятных для меня в то время компромиссов, который просто потряс меня. Рассказала это нам в девятом классе учительница физики Наталья Николаевна, которая физику знала плохо и не любила, а любила, наскоро объяснив новую тему, рассказывать о разных ученых и других известных людях вот такие истории… Потом я видела у моей мамы книжку из серии «Жизнь замечательных людей». Мама читала, возмущалась и советовала почитать мне.
В передаче же моя любимая писательница говорила с горечью, как бедная Фира Ландау все маялась и маялась всю жизнь, не в силах освободиться от своей зависимости, от страшной, мучительной силы, способной раскрошить твою душу за минуту, ту минуту, когда ты узнаешь о предательстве, — в прах — и развеять его по ветру. Что это летит? А? Где? Да ничего. Это было когда-то моей душой. А это кто идет-бредет, не зная, не понимая — куда, зачем?.. — а это я. Вот, иду, смотрю, как летят по ветру остатки моей души.
И вот ведущая крутилась, вертелась, подковыривала, а любимая писательница — все отсмеивалась да отсмеивалась, нисколько не обижаясь, а только чуть удивленно поглядывая на новомодную литераторшу. Я так и думала, моя сейчас спросит немою: «Ну что ты подпрыгиваешь, как блоха на болонке? Ну дали тебе задание меня искусать, но я, видишь, невкусная, я не дамся, ну не солидно нам так прыгать… Давай пару слов про вечное — и разойдемся». Но она ничего не сказала. Напоследок разозленная ведущая спросила:
— Ну чё, как вообще жизнь-то прошла?
Я помню, как обиделась за свою. А она засмеялась и ответила:
— Знаешь… Лучше, чем у Фиры Ландау. Лучше.
Немоей пришлось тоже смеяться. А моя перестала смеяться и с грустью посмотрела на другую писательницу, на зал, на меня — с телеэкрана. Я знаю, почему она так грустно смотрела. Теперь знаю.
Если хочешь, чтобы мужчина тебя не нашел, — он тебя не найдет. Толя искал нас долго. Он съездил к моей маме, которая совершенно искренне удивилась, увидев такого красивого мужчину в своих дверях. Потом она, разумеется, узнала его и так же искренне отказалась ему помогать. Она не знала, где мы, но, очевидно, радовалась, что наконец-то — пусть с другим! — я сумела проявить твердость и гордость.
Толя нашел и Нельку, что было делом непростым — он не знал ни адреса ее, ни телефона. У него не осталось никаких номеров, по которым я звонила. В новой квартире, где мы пытались начать счастливую жизнь, по принципиальным соображениям мы поставили телефон совсем простой, без всяких дополнительных шпионских функций — ни тебе памяти входящих-исходящих, ни переадресовки, ни записной книжки, ни, разумеется, определителя номера. Я уже отвыкла от таких телефонов и первое время очень радовалась неожиданным звонкам — так, оказывается, приятно, когда поднимаешь трубку и не знаешь, кто сейчас с тобой поздоровается…
Нелька честно ответила, что знает, где мы, но ему не скажет. Толя устроил ей допрос с пристрастием, но Нелька стояла как скала, чем меня несказанно удивила. Я даже подумала — не радуется ли она, что так все вышло. Может, она тоже не верит в наше скоропалительное счастье? Она очень разумно воспользовалась его звонком и потребовала, чтобы он привез к ней наши с Варей зимние вещи ввиду надвигавшейся зимы…
Толя связался со съемочной группой, но на съемках у Вари был временный перерыв, они снимали павильонные сцены с большой куклой, изображающей нашего Гнома, и монтировали отснятое в Крыму. Я с ними общалась по е-мэйлу, у которого, к счастью, географического адреса нет.
Мобильный телефон я включала только по необходимости.
Тогда он, профессиональный разведчик, отсек невозможные и глупые ходы, совершенно, кстати, напрасно. И продолжил поиски… с помощью милиции. Он обратился к своему бывшему сослуживцу, работавшему теперь и. о. прокурора одного московского округа. Тот дал разнарядку в милицию — неофициальную. И нас стали искать участковые. Фигуры мы были видные, особенно я. Но сначала нас искали в Москве, а мы жили не в Москве.
Бедная Варя в очередной раз пострадала от маминых амуров, но теперь я не могла возить ее каждый день в школу и обратно, и пришлось нам поступиться и этим. Я проявила необычную для себя активность и последовательность и перевела ее в школу туда, где мы жили. А жить мы стали в двенадцати километрах от Москвы, недалеко от Красногорска.
Это было глупо, но я не могла его ни видеть, ни слышать, у меня не было сил ни на какие объяснения. Я боялась, что у меня просто разорвется сердце или начнутся преждевременные роды.
Я нашла замечательную двухкомнатную квартиру, Варя совсем как в воду смотрела — пригодились ее деньги за съемки, потому что свои сценарные я, подумав, положила на срочный валютный вклад. Сняли мы ее по сравнению с московскими ценами просто за копейки у помрежа, Надюши Андревны, которая еще летом рассказывала, что сын купил и обставил квартиру так далеко от Москвы, что ни жить в ней, ни сдавать ее с толком и порядочным людям не получается.
Квартира была в новом доме, облицованном красным кирпичом, из больших панорамных окон можно было любоваться полями и лесами и даже краешком Москвы-реки. Я старалась не думать ни о прошлом, ни о будущем и жить, как говорил Максимилиан Волошин, «текущим днем, благословив свой синий окаем». За «окаем» вполне сходили красногорские перелески, а жить текущим днем и его заботами за месяц до родов не так уж и сложно.
Я старалась больше гулять, да и Варьке это было на пользу, она сразу нашла себе двух подружек во дворе, рассказала им про мою книжку, а про свои съемки — нет. Я подозревала, что это зреет и растет в ней будущая папина загадочность и скрытность, даже в ущерб себе.
Варька выслушала мои объяснения про Толю один раз и больше ничего об этом не спрашивала. Ее собственный папа ни разу не звонил с начала лета, а тут-то уж чего было ждать. Мы гуляли по небольшим улочкам, с которых никто не убирал осыпавшиеся листья, вспоминали смешные эпизоды с летних съемок — а их оказалось так много… Я рассказывала Варе сказку дальше и дальше. И еще пыталась приготовить ее к тому, что первые две-три недели, когда родится малыш, ей придется стать чуть взрослее, а потом опять можно будет почти во всем надеяться на маму.
Как-то раз я стояла и смотрела, как Варя бегает с девочками по двору. Я присмотрелась. Они просто бегали и смеялись, ни во что не играли. И в беготне друг за другом состояла вся прелесть игры, вызывающая такую радость. Надо же, как у некоторых взрослых. Догонишь — и все, не во что играть.
Боль прошла гораздо быстрее, чем я думала. Тянула-ныла и как-то незаметно отпустила. Мне стало легко и просто. Мобильный я отключила, попросив Антона общаться со мной по е-мэйлу. «Жить без любви легко и просто…» — как точно!.. И дело не только в том, что все мои силы и мысли занимал мальчик, который вот-вот собирался увидеть свет. Мальчик мальчиком, но я давно не испытывала такой свободы и легкости, как в этот месяц. Может, права Нелька, сказавшая как-то в сердцах: «Чего ждать от мужчины, кроме денег и огорчений!» За свои пять недель счастья я уже наплакала пять ведер слез. Стоило ли оно того?
Или, может быть, я все не тех мужчин выбираю? Все чаще и чаще приходила мне в голову эта мысль. Пока я не поняла, какое у нее будет продолжение — «Ведь где-то есть наверняка хороший, порядочный человек, допустим… нет, уже не офицер и, конечно, не физик и не банкир… Скажем… архитектор — вот! Точно! Архитектор. И он живет и ждет меня, надо и мне дождаться встречи…»
Ну уж нет! — прервала я сама себя. На меня встреч хватит, не надо себя обманывать.
Однажды мы пришли из школы, и я увидела стоящую у нашего подъезда Толину машину. То, что это он, я поняла, еще не видя его темно-синей «тойоты». Мы шли пешком, и вдруг у меня заколотилось сердце. Я остановилась, стараясь ровно дышать и не пугать лишний раз бедную замотанную Варьку, которой в очередной раз пришлось объяснять, что то, что было «хорошо», оказалось «плохо».

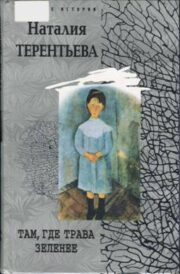
"Там, где трава зеленее" отзывы
Отзывы читателей о книге "Там, где трава зеленее". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Там, где трава зеленее" друзьям в соцсетях.