— Какой вопрос?
— Спроси, люблю ли я его по-прежнему, — сверкнув глазами, сказала Зара.
— Ты по-прежнему хочешь чая? — угрюмо спросил Юрий.
— Тогда я отвечу: да, люблю. Ничего не могу с этим поделать. Люблю его. Без него я танцую словно с привязанными к ногам гирями. Устала я от этого всего…
Лобов нетерпеливо махнул рукой:
— Про гири — извини, неинтересно. Ты намерена работать дальше со мною или нет, вот что важно?
— Намерена, — отрывисто сказала Зара.
— Если намерена — чтоб я больше про твои гири и прочие дела не слышал. Жизненные катастрофы надо уметь переплавлять в искусство. Наши поражения и беды — материал для искусства. И не более того. Это говорит тебе человек, переживший и не такие крушения надежд. Тем паче, что с тобой-то самой ведь ничего не случилось. Ты-то, кажется, по-прежнему здорова и невредима, и надеюсь, завтра придешь работать… Мои надежды справедливы?
Зара вздохнула:
— Да уж, на роль жилетки ты точно не годишься. Хорошо, завтра я буду.
Она поднялась и пошла к двери.
— Только не опаздывай, — вслед ей промолвил Лобов.
Глава 36
Пепел
Чон не сошел с ума, чего опасалась Зара, которая время от времени стала навещать его в больнице, с тревогой выспрашивая лечащего врача Павла о его психическом состоянии.
Напротив, он вышел из шокового состояния раньше, чем его организм справился с тяжелым воспалением легких.
Он обнаруживал перед психиатром, приглашенным на консультацию, такую трезвость ума и бодрость духа, что тот отклонил всякие подозрения насчет умопомешательства больного.
Чон не сошел с ума, его поведение было абсолютно нормальным. Нужен был куда более опытный врач, чем тот консультант, чтобы распознать в его ответах на вопросы хитрость сумасшедшего, который хочет, чтобы его считали нормальным.
Было ли это действительно сумасшествие? Сам Чон считал, что он на пути к безумию, что с этого пути, как со скользкой наклонной плоскости, ему уже не вывернуться, если не произойдет чуда. Ему вовсе не улыбалось загреметь в психушку, где его будут колоть аминазином и серой. А что готовит ему это учреждение, он догадался с помощью одной книги, которую читал его сосед по койке, — «Справочник практикующего врача».
Внимательно прислушавшись к своему состоянию, Чон выписал на листок признаки душевного нездоровья, которые обнаруживал в себе. Сильное сердцебиение. Скользкий, прохладный страх где-то в области сердца, страх, граничащий с паникой. Сильная тяга к окну — палата, в которой он находился, была на пятом этаже, и Павел с трудом удерживал в себе желание, особенно ночами, броситься вниз. Дрожь сердца, которое точно висело на тонком-тонком волоске. Бессонница и полная потеря аппетита — он больше делал вид, что ел, притрагивался к хлебу и каше, а суп и котлеты скармливал выздоравливающему после плеврита соседу. И еще что-то было такое, что он не мог уловить, — страшное чувство разрастающейся тревоги, какой-то тонкий монотонный звук, сопровождавший его последние месяцы. Все это можно было отнести к признакам классической депрессии, только очень тяжелой, которая может привести к настоящему безумию, — так он решил, сверившись со справочником.
И еще постоянная близость слез… Если бы он осмелился дать себе волю, они потекли бы из глаз ручьями. Павел узнал в эти дни, как можно любить мертвых. До сих пор он об этом только слышал. Стася постоянно была перед его глазами. Он и врача, задававшего ему тонкие вопросы, видел сквозь нее. Каждое воспоминание, связанное с ней, приводило его в такое умиление, точно он был малым ребенком, потерявшим мать. Он мог разрыдаться при звуках ее имени. Да что там разрыдаться — грызть руки, кататься по полу… Конечно, это имя никто не произносил, ни Зара, ни Марианна, которая после того, как его перевели в терапию, приходила каждый день и до дрожи пугала его своими приходами.
Марианна держалась ласково, приносила соки и минеральную воду, но Чон, хотя его мучила жажда после антибиотиков, скорее бы дал отрубить себе руку, чем сделал бы глоток из бутылок, которые она приносила. Марианна садилась на стул рядом с Павлом, брала его за руку, расспрашивала о том, как он себя чувствует, что ест… Как только пальцы ее касались его руки, Чон стискивал зубы, ему казалось, что она через его пульс пытается разведать какую-то его страшную тайну. Сосед по койке говорил: «Какая славная, заботливая старуха, как она тебя любит, переживает за тебя, как за сына», а Чон чувствовал в теплых пальцах Марианны прикосновение самой смерти, через них в его организм поступала отрава… Он боролся с желанием спрятаться под одеяло, забиться головой под подушку, когда она возникала на пороге палаты, вся в черном. И ненавидел ее за то, что Марианне удалось увидеть его слезы.
Это случилось через несколько дней после похорон Стаси. Забывшись после укола, Чон впервые увидел во сне жену. Он был уверен, что это не сон, он слышал свой собственный голос, произнесший вслух: «Я вижу тебя, ты — моя жена». Стася сидела на земле в какой-то пыльного цвета хламиде, которой Чон никогда на ней не видел, в подоле у нее лежала охапка незабудок. Глядя на Павла неотрывно, Стася перебирала цветы пальцами. Чон смотрел на нее, и через вены в него стал проникать холод, как будто ему вкалывали ледяную воду. Губы у него смерзлись, он с трудом разлепил их, чтобы вымолвить: «Стася, мне холодно». — «На, укройся», — сказала она ему, бросив на его руку горсть земли…
Чон пришел в себя, когда почувствовал, что его голову приподнимают: это Марианна снимала мокрую от слез наволочку. «Ты видел ее во сне», — утвердительным тоном произнесла она, и Чону показалось, что на ее губах промелькнула улыбка.
В мае его выписали. Чон упросил врача не говорить ни Заре, ни Марианне о дне его выписки. Он переоделся в те же рубашку и брюки, в которых его привезли в больницу, накинул на плечи куртку и вышел из больничных дверей.
И тут сразу понял, что с белым светом что-то произошло за то время, что он провалялся на койке. Солнце светило, и молодая зелень плескалась вокруг, и люди сновали по улице как ни в чем не бывало… Но что-то случилось. Город, как древняя Ниневия, был покрыт пеплом. Зелень была черная, небо — белое, бумажное, люди одеты либо в белое, либо в черное. Но все виднелось сквозь какую-то муть, мельчайшую взвесь, висевшую в воздухе. Клавишу цвета заело, вяло подумал Чон. Он не различал цвета!
Чон повертел головой, протер глаза, прошел несколько шагов вперед. Перед ним заплескались торговые ряды рынка. Прилавки с черно-белым чем-то, припорошенным пеплом. Пепельное облако, белое небо.
Чон сел в троллейбус и поехал в центр, чтобы там пересесть на автобус, идущий к дому Стаси.
В сущности, куда более охотно он отправился бы к кому-то из приятелей, хоть к Коле Сорокину. Но не мог представить себе, что будет делать, когда Коля выйдет куда-то из дома по делам. Чон не мог находиться в одиночестве, это было ему ясно. Он должен был кого-то постоянно видеть рядом — Зару, Стефа, даже ужасную Марианну, только бы не оставаться одному. В Стасином доме всегда кто-то был, и гости все время приходили…
Чон вышел из троллейбуса в районе Третьяковки. Судя по черному диску солнца, было около пяти часов вечера. Оглянулся — его длинная черная тень шла за ним. Чон прошел вперед, по Большой Ордынке, миновал церковную ограду, вошел в ворота храма с мозаичным изображением святителя Николая, взялся рукой за железное кольцо.
Всенощная еще не начиналась. К окошку, где продавали свечи, стояла небольшая очередь. Чон к ней пристроился, наскреб мелочи в кармане куртки, купил свечку. Он смутно помнил, что существует в храме какое-то особое место, куда принято ставить свечи за упокой души человеческой. Чон спросил об этом хромого старика. «На канун», — ответил тот, указав рукой в сторону большого подсвечника с крестом посередине. Потом остановился и, всмотревшись в Чона, взял его за руку и подвел к распятию со множеством горящих вокруг него свечек. «Сюда».
Чон зажег свечку, воткнул ее в подсвечник и спросил хромого:
— Что нужно сказать?
— Молитвы какие-нибудь знаешь?
— Ни одной, — ответил Чон.
— Усопший был крещеным?
— Усопшая, — поправил Чон. — Кажется, да.
— Хочешь, я за тебя прочитаю молитву? Имя усопшей?
— Стася, — произнес Чон. Судорога пробежала по его лицу.
— В крещении как будет?
— Анастасия, — неуверенно промолвил Чон.
— Повторяй за мной. «Боже духов и всякия плоти…»
Чон шепотом повторял слова молитвы, осенял себя крестным знамением. Закончив молитву, хромой оборотился к нему и спросил:
— Узнаешь меня?
— Нет. Мы знакомы?
Хромой усмехнулся.
— Да какое знакомство… Я у тебя пару лет тому назад пытался украсть чемодан на вокзале. А ты отдал мне свитер. Спасибо, брат. Я тебя запомнил. Буду за тебя и за твою усопшую молиться. Как твое имя?
— За меня не надо, — сказал Чон.
— Ты мне и тогда точно так же ответил, — возразил хромой. — Ты-то крещеный?
— Я? Нет.
— Скажи имя свое, я за тебя келейно молиться буду. А ты бы покрестился… Сам бы стал молиться…
— Нет, — сказал Чон, — не могу. Тогда бы еще мог молиться, а теперь не могу. Скажи, брат, что вон там за икона висит?
— Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец».
— Спасибо, брат. Скажи теперь, какого цвета на Богородице покрывало?..
Глава 37
Цветущая вишня
Ближе к осени поэт-авангардист Саша Руденко нанимался охранять дачи своих более преуспевающих собратьев по перу. Надо сказать, от предложений не было отбоя. Братья по цеху знали Сашу как честного охранника, который не приведет в дом беспечную компанию, нищих гениев, нарушителей тишины и порядка писательского поселка, и не поселит в комнатах странствующих поэтесс. Саша во вверенном ему жилище время от времени наводил порядок, не позволяя скапливаться пыли. К тому же он был большим мастером огородных дел и по весне засаживал участок вокруг дачи кабачками и морковью, натягивал теплицы для огурцов. Поэтому звонить Саше хозяева дач начинали уже с марта. Саша сам выбирал себе хозяина не с точки зрения удобств в доме или величины вознаграждения, а исключительно из творческих соображений, о чем, правда, вслух не говорил: объект его охраны должен был располагаться в живописном месте, желательно рядом с лесом или с озерком. Близость деревьев и воды способствовала появлению вдохновения у Саши, который в городе не имел возможности творить, ибо всякий день оказывался втянутым в разрешение проблем своих многочисленных друзей. Возможно, именно врожденный альтруизм помешал Саше добиться успехов на ниве творчества, тех самых, за которые другие, менее талантливые люди, получали дачи и поездки за границу.
На этот раз он обретался на даче не у собрата по перу, отчего несколько снизил уровень своих обычных правил: за эту дачу после смерти знаменитого писателя шла драка, вдова предъявляла свои претензии, дети прозаика от первого брака — свои, но в конце концов здесь поселился владелец банка, которого Саша не мог так уважать, как людей творческих, и он пригласил на дачу свою добрую знакомую, уральскую писательницу Надю Майорову. Надя решала проблему с изданием своего нового романа. Саша всей душой сочувствовал Наде, хотя и считал ее слишком уж большой традиционалисткой, не подозревающей о существовании в литературе Набокова и Саши Соколова. Но те, кто хорошо знал творчество этих авторов, уже надоели Саше — эпигоны и подбиратели крох с пиршественных столов двух величайших прозаиков столетия. Надина преданность традиционному письму и подробному описанию быта простых россиян внушала Саше теперь большее уважение.
Но вместе с тем в настоящем быте Надя оказалась совершенно неприспособленным человеком. Ни сготовить толком не умела, ни постирать, ни прибраться. Сашу это не напугало. Со свойственной ему преданностью многочисленным друзьям он стал заботиться о Наде: кормил, поил молоком, пришивал пуговицы к ее старенькому пальто, сам звонил по издательствам, пытаясь отыскать среди них те, из которых можно выжать максимальный гонорар. Надя, давно знаменитая, и этого делать не умела.
Но зацвели вишни — и Саша ощутил в своей крови легкие звоночки рифмы. Ему самому захотелось писать, пока его не согнали с дачи на лето. Он объявил Наде, проживающей сразу во всех шести комнатах дачи — в одной она писала, в другой — перепечатывала написанное, в третьей — обдумывала новый сюжет, в четвертой… Словом, Саша объявил Наде, что хочет пожить немного в угловой комнате совершенно автономно, в тишине и покое. Надя согласилась, но выговорила себе право вызывать Сашу из его угловой, если ей вдруг срочно понадобится его совет, валдайским колокольчиком.

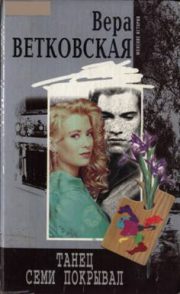
"Танец семи покрывал" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец семи покрывал". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец семи покрывал" друзьям в соцсетях.