С места вскочил тонкий, совсем юный парнишка, танцуя, пошел след в след за Кармен. Она откликнулась на его появление мягкой насмешкой. Казалось, ее движения говорят: «Вот теперь перед тобой настоящая женщина, а до этой минуты ты видел девчонку». Кармен то добродушно посмеивалась, а то вдруг становилась любящей и заботливой. Они танцевали — то шутливо, то чувственно; под конец я неожиданно сообразила, что стройный юноша — ее сын.
Позже Долорес подвела свою тетушку ко мне познакомиться.
— Меня учили совсем другим танцам, — сказала я, все еще не оправившись от изумления.
Кармен повела полными плечами.
— Есть испанский танец, а есть фламенко.
— Фламенко? — переспросила я, наслаждаясь звучанием незнакомого слова. — Что это значит?
Она снова пожала плечами.
Насколько я поняла, фламенко — это особый стиль, особое отношение к жизни. Танец фламенко полон огня, он шумный, яркий, смелый. У него древние корни, и он исполнен гордости и чувства собственного достоинства[33].
Кармен была суровой учительницей. Хотя я платила ей очень щедро, она ни на миг не позволяла забыть, что я получаю от нее ценнейший подарок. Пусть; я была на все согласна. Цыгане черпали свое искусство из какого-то природного источника, и я желала разобраться, как они это делают.
Кармен снова и снова заставляла меня повторять движения, а шумная малышня вбегала в пещеру и снова убегала, смеясь надо мной и передразнивая.
— Ты неплохо танцуешь, — сказала она как-то раз. — Но без duende у тебя есть лишь форма танца, пустая скорлупа.
— Что такое duende?
— Это — неясный звук, тайна. То, что в крови. Что пришло от дедов и прадедов. Чтобы танцевать с duende, тебе надо найти самую суть, сердцевину. Все лишнее нужно отбросить. А когда отыщешь то, что внутри, сырое, трепещущее, — тогда сможешь начать. — Кармен хлопнула в ладоши: — Давай снова.
Я сделала несколько первых шагов. Кармен качнула головой:
— В тебе слишком сильна английская кровь. Она не дает тебе двигаться.
— Я не англичанка! — возразила я.
Кармен обидно расхохоталась.
— Да ты вообще танцуешь, словно в жилах вода, а не кровь. Ну точь-в-точь старая корова на лугу. Будто у тебя в сердце не огонь, а толстая ленивая жаба. — Она снова хлопнула в ладоши: — Пошла!
Разъяренная обидными словами, я вихрем пустилась в пляс. Руки рвали воздух в клочья, пальцы были, словно ножи.
Отплясала; остановилась, тяжело дыша. Кармен зааплодировала.
— Так-то лучше, — сказала она довольно.
Каждый раз, как я отправлялась в пещеры к цыганам, Эллен меня сопровождала. Не то чтобы ей нравилось — она полагала это своим долгом.
— Понять не могу, что вас туда тянет? — говорила она. — Совершенно отвратительный народ. И еда у них прямо плавает в масле. К тому же они без зазрения совести вас обдирают.
— Эллен, если вам не хочется, не ходите.
— Отпускать вас одну?! Да с вами там бог весть что может случиться.
— Ладно; тогда пора отправляться.
По дороге к пещерам Эллен не умолкала:
— Ничего из этого не выйдет. Весь этот вой и топот — они такие грубые, никакого нет благородства. И в движениях ни тонкости, ни изящества. Это вообще назвать танцем нельзя.
— Возможно, оттого мне и нравится.
— Так ведь никто платить за такое зрелище не станет. Денег вам на нем никак не заработать.
— Посмотрим, — стояла я на своем.
Близилась весна, и одна из двоюродных сестер Долорес вышла замуж. Кармен пригласила меня на свадьбу; она же посоветовала, какой сделать подарок — конверт с деньгами, вложенный в ларец с серебряными ножами. К вечеру дошло дело до песен и танцев. Порой мужчина и женщина танцевали друг против друга, точно противники в смертельной схватке, а порой улыбались друг другу, смеялись.
Эллен с каменным лицом сидела в углу, словно чувствовала себя в одном из нижних кругов ада. Если ей предлагали вино или еду, она неизменно качала головой, отказываясь.
— Это очень невежливо, вы их напрасно обижаете, — указала ей я.
— Мне все равно!
За прошедшие несколько месяцев семейство Долорес начало воспринимать меня почти как свою. Думаю, их забавляло, что я хочу у них учиться. Одна лишь старая бабка не желала меня признавать.
То и дело разносили вино — густое, золотистое, которое огоньком растекалось внутри. Чем ближе к ночи, тем более дикими и страстными делались танцы.
После очередной здравицы молодоженам девушка по имени Имакулата пошла по кругу, кого-то или что-то высматривая; Черные глаза сверкали из-под сросшихся густых бровей. Кто-то указал на меня, но я решительно потрясла головой. Имакулату это не остановило: невзирая на мои возражения, она вытащила меня на середину пещеры.
Покачиваясь из стороны в сторону, руками сплетая в воздухе замысловатые узоры, Имакулата начала фанданго. Я повторяла ее движения, однако тело было неловким, точно закостеневшим. Имакулата с силой топала по земляному полу, так что взлетала пыль; дернув за подбородок, она заставила меня высоко поднять голову. Цыгане кругом оглушительно хлопали, Имакулата сердито закричала. Потом они заорали все разом, яростно топая ногами.
Вино и дружные хлопки сделали свое дело; от шума и жары у меня кругом пошла голова, а в тело вдруг влилась незнакомая прежде сила. Во мне проснулось нечто природное, первобытное — и больше уже не уснуло. Имакулата подталкивала меня, упрашивала, подзуживала; она отбивала ритм, ее руки давали танцу жизнь. И эта жизнь билась у меня в животе, в сердце, в горле. Пот заливал лоб, платье на спине и груди промокло насквозь.
После фанданго я исполнила танец solea. Грудь мне пронзала любовь, она порождала движения рук, от нее ожили и заговорили на собственном языке пальцы. Я изобразила зарождение любви, затем ее смерть. Показала глубокие тени и вспышки света. Розовый бутон на весенней ветке. Букет сухих лилий, оставленный у входа в склеп. Я станцевала робкий стук начавшегося дождя по сухой, изможденной, растрескавшейся земле. Брошенную возлюбленную. Я танцевала голые ветви дерева, некрещеного младенца, зарытого под корнями капока. Все свои горести и потери я танцевала там, в цыганской пещере. Прическа распалась, волосы рассыпались по плечам, платье оказалось порвано, пот лил с меня ручьем.
Затем Имакулата ободряюще похлопала меня по спине, Кармен промокнула мне лицо, убрала волосы с глаз, кто-то поднес стакан сладкого вина. В дальнем углу Эллен гадливо кривила губы.
На следующий день пришли два письма из Англии. В первом конверте лежал чек от графа Мальмсбери и несколько газетных вырезок. Второе письмо, из лондонской консистории, было переслано через миссис Ри. Согласно официальному уведомлению, Томас получил развод a mensa et thoro[34]. На прошлой неделе Джордж согласился заплатить ему деньги за моральный ущерб. Дай я себе труд прочесть внимательно мелкий шрифт, я бы увидела, что развод наш — неполный, мы оба не имеем права на повторный брак. Лейтенант Джеймс и я остались навечно связаны друг с другом, нравилось нам это или нет. Дело о разводе было громким, отчеты печатались во многих газетах. В заключительной речи судья заявил, что я виновна в поведении, от которого содрогнулся бы и покраснел даже аллигатор. Газетные статьи полнились непристойными сплетнями и домыслами. Совершенно очевидно, что в театрах и светских гостиных об истории моей любви судачили, как о каком-то дешевом романе. Люди перешептывались, называя меня прелюбодейкой, потаскушкой. Ну и ладно, решила я; терять мне уже нечего.
— Значит, мы можем возвращаться домой? — спросила Эллен.
— Как только уляжется пыль, — кивнула я. — Подождем немного.
Пришла пора критически взглянуть на сложившуюся ситуацию. Эллен, разумеется, права: попытка станцевать фламенко в Лондоне обречена на провал. Меня просто-напросто под свист и хохот зала прогонят со сцены. Британский театрал желает получить аромат экзотического блюда, а вовсе не саму малосъедобную для него пищу. Ему нужна интерпретация; не Испания как таковая, а ее дух, тщательно отфильтрованный, разбавленный и подсушенный. Прекрасно, говорила я себе. Я создам некую фантазию на испанскую тему. В позолоченном и утонченном мире лондонского театра я представлю зрелище, которое повергнет зрителей в восторг и смятение, и они даже понять не смогут, бегут у них мурашки от радости или отвращения.
Я перестала ходить в пещеры к цыганам. Сшив три испанских бальных платья, сначала я исполняла небыстрые и полные величавого достоинства классические танцы, затем перешла к тем, что переняла у Кармен, стараясь исполнять их так, чтобы не бросало в пот. Я упростила движения, замедлила темп; научилась танцевать с кастаньетами, с веером, с шалью. Я пользовалась всем, чему научилась у Ситы, у мисс Келли, у сеньора Эспы: гибкие движения кистей рук, актерская игра, чувство театра — все это мне теперь пригодилось.
Цыгане из пещер Сакромонте поразились бы и огорчились, увидев, что я сотворила с их искусством. Кармен восприняла бы это как настоящее предательство. Однако я полагала, что у меня получилась не злая пародия, не полное искажение танца. Ибо дух фламенко оставался со мной — он жил в моем сердце, и отбрасывать его вовсе я не собиралась.
Однажды ранним утром Эллен нашла снаружи на подоконнике розовый бутон. Следующим утром появился другой. Долорес каждый вечер молча ставила на подоконник хрустальный бокал с водой, и наутро в нем обнаруживался цветок. Эллен твердо вознамерилась вызнать, кто тот злодей, что приносит тайком розы, но как бы рано она ни вставала, ни разу ей не удалось застать таинственного незнакомца. Подбежав к окну, она всякий раз находила в бокале цветок, и ни следа человека, что его принес. Поначалу бутоны были белые, с нежнейшим оттенком розового, и плотно сомкнутые. Однако с течением дней лепестки становились все более раскрытыми, а цвет — насыщенным. На седьмой день мы обнаружили полностью распустившуюся розу с алыми бархатистыми лепестками. Все трое — Эллен, Долорес и я — по очереди насладились кружащим голову ароматом.
— У меня явно есть тайный поклонник, — заметила я.
Эллен с Долорес обменялись удивленными взглядами.
— Розу-то для меня поставили, — с жаром заявила Эллен.
Долорес тихо, застенчиво улыбнулась:
— А по-моему, для меня.
День отъезда близился, и я приобрела новый гардероб. Долорес объявила, что помолвлена и скоро выходит замуж. По моему настоянию Эллен передала ей одно из моих старых платьев.
— Неужто так надо? — пыталась она возражать, надеясь, что платье в конце концов достанется ей.
— Обязательно, — сказала я решительно, и платье отправилось к Долорес.
В мануфактурном магазине я купила роскошную мантилью из белого кружева; это был тончайший рисунок из роз и флердоранжа[35]. Я говорила себе, что подарю мантилью Долорес — пусть наденет на свадьбу; но как-то само собой вышло, что этот подарок я ей не вручила. Когда прибыли новые платья, мантилью я убрала в саквояж вместе с ними, а старые наряды все отдала Эллен. Она долго не могла поверить, что ей привалило такое счастье.
— Вы уверены? — спрашивала она. — Не передумаете?
— Нет. Эти платья принадлежали Элизе Джеймс.
Как-то раз, перед самым отъездом, мы с ней сидели в кофейне, наблюдая за величавыми damas, что прогуливались по улице. Я была одета в один из недавно сшитых нарядов, Эллен — в перешедшее к ней платье.
Издалека наблюдая за краткой беседой великолепной dama и ее поклонника, я неожиданно осознала, что именно я вижу. В смятении, шепотом я поделилась своим открытием с Эллен.
— Так оно же яснее ясного, — фыркнула она.
— Но ведь они держат себя так скромно и достойно. — Слабое оправдание собственной недогадливости.
Эллен бросила на меня странный взгляд, и тут я, не сдержавшись, громко засмеялась. Великолепные damas, которых я взяла себе за образец, оказались куртизанками. Я поглядела на свой собственный новый наряд. Оставалось надеяться, что в Лондоне люди столь же наивны, как я.
Сцена шестая
Органза, переливающаяся малиновым, синим и фиолетовым
Глава 21
Звонким морозным утром в апреле 1843 года в Саутгемптоне сошли на берег пассажиры, приплывшие из Кадиса. Среди них была молодая женщина с необычной броской внешностью; она дрожала от холода и куталась в кашемировую шаль. Сеньора Мария Долорес де Поррис Монтес — ибо, как истинная испанка, она предпочитала, чтобы ее называли полным именем — была из благородной семьи, обнищавшей во время недавних карлистских войн. Она была еще совсем молода и лишь недавно вышла замуж, однако в силу жестоких обстоятельств уже овдовела. С ног до головы одетая в траур, сеньора Поррис Монтес являла собой картину неутешного горя. Ее черные как смоль волосы были сколоты высоким испанским гребнем, сквозь кружевную мантилью смотрели влажные глаза. Она не скрывала скорби, однако держалась прямо и с большим достоинством. В отличие от большинства испанцев — черноглазых или кареглазых — эта молодая сеньора была обладательницей удивительных лазурных очей.

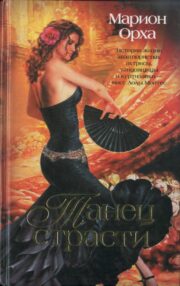
"Танец страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец страсти" друзьям в соцсетях.