На следующий день пошли всяческие кривотолки. Одна газета писала, что я швырнула офицеру подвязку, другая — что я разделась на сцене догола. Покатилась молва, что мне больше уже никогда не выступать в Гранд-опера. Я, разумеется, возражала; но слухи, как известно, не переспоришь.
Свое огорчение я излила, отправившись в тир с новым другом, Александром Дюма. Еще в Индии один британский сержант научил меня управляться с пистолетом, и стрелок из меня вышел отменный. Стреляя быстро, почти не целясь, я пулями изрешетила центр мишени. Дюма был поражен. На следующий день о моем подвиге написала газета «Ла Пресс», а еще через неделю о нем уже знала вся Европа.
Итак, провал моего выступления в Гранд-опера — не мелкая досадная неудача, а полное фиаско. Вслух яростно это отрицая, в душе я сознавала, что именно так оно и есть. Дело в том, что я — не Эльслер и не Тальони, и ничего с этим не поделаешь. Да разве могу я сравниться с великими балеринами, которые обучались своему искусству с самого раннего детства? И хотя я настойчиво твердила, что мои танцы исполнены истинно испанского духа, я ни за что не рискнула бы выступать перед настоящей испанской аудиторией. Что ж: я метила слишком высоко — придется подыскать себе площадку пониже.
Осенью я обратила внимание на молодого человека с серо-зелеными глазами — Александра Дюжарье, близкого друга Дюма. Он был порывист, стремителен в движениях, остроумен, улыбчив и недурен собой. В свои двадцать лет он уже являлся владельцем «Ла Пресс», самой читаемой парижской газеты. Высокий, худой, темноволосый, с густыми бровями и мужественным подбородком, в салонах французской столицы он был весьма заметен.
Мы с ним были схожи: оба мы, каждый по-своему, сами лепили свою судьбу. В первый раз оказавшись наедине, мы подняли друг за дружку бокалы с шампанским.
— Вы — карьеристка, — улыбнулся Александр.
— А вы — парвеню[41]! — засмеялась я.
Среди прочих многочисленных поклонников Александр выделялся тем, что ухаживал чрезвычайно нежно. Если другие забрасывали меня букетами роскошных роз, то он дарил букетик трогательных фиалок. Однажды он принес одну-единственную маргаритку, в другой раз — лист, от которого осталось лишь тонкое кружево прожилок. Спустя несколько недель после нашего знакомства я переехала в квартиру, соседнюю с квартирой Александра.
Романист Дюма не одобрил поведение друга.
— Разумно ли это? Зачем заводить любовницу, а потом держать ее под боком, точно жену?
В доме 39 по улице Лафит у нас с Александром началась новая жизнь. Мы с ним отлично дополняли друг друга: где я была напориста, он медлил; когда я волновалась, он оставался спокоен. Мне с ним было так хорошо, что впервые за последние полтора года я утратила бдительность и перестала следить за тем, чтобы неизменно оставаться благородной испанкой — донной Монтес. Когда в результате моей беспечности выплыла неприглядная правда, Александр только весело посмеялся. В тот день мы были у меня, отдыхая после обеда; шторы были задернуты, в камине пылал огонь, два бокала мадеры в свете лампы казались полны жидкого янтаря.
— На самом деле я не вдова, — созналась я, — а разведенная жена.
— Да будь у тебя хоть десять мужей, мне было бы все равно, — объявил Александр.
— А в Пруссии меня обвинили в оскорблении действием офицера.
Он широко улыбнулся:
— Ma chere[42], ты этим прославилась.
Я прикусила губу. Затем продолжила:
— Но меня к тому же называют прелюбодейкой и мошенницей.
— Ты — женщина из плоти и крови. Какое же в этом мошенничество?
— Ты знаешь, что меня выгнали из Польши.
Александр схватил меня в объятия и пылко поцеловал в шею.
— Мы печатали об этом статью в «Ла Пресс». Ну, что тут скажешь? Их потеря — моя находка.
Я упорствовала в саморазоблачениях:
— Мой муж — британский капитан и служит в Индии, а вовсе не герой Испании.
— Тогда ничего удивительного, что ты от него ушла.
— Ты не принимаешь меня всерьез! — вспылила я. — Тебе вообще на меня наплевать!
В ответ Александр прижал меня к себе, целуя глаза, кончик носа.
Хотя я рассказала ему все, он поклялся, что его любовь безгранична. Александра даже ничуть не расстроило, что я оказалась не благородной испанкой, а наполовину ирландкой.
— Я люблю тебя, а не страну, где ты родилась.
Я перестала мечтать о будущем; теперь я наслаждалась настоящим — каждым днем, каждым часом. Мне нравилось смотреть на Александра, когда он спал; его длинные темные ресницы лежали на щеках. Я обожала наблюдать, как он — высокий, длинноногий — ловко пробирается в толпе. Когда он, еще полусонный, пил с утра кофе, у меня от нежности щемило сердце. А когда он в кафе, с чувством жестикулируя, рассуждал о политике, мне хотелось протянуть руку и погладить его узкие худые пальцы.
Однажды вновь собравшись в тир, я полагала само собой разумеющимся, что Александр захочет меня сопровождать. Однако он недоуменно спросил:
— С какой стати женщине браться за пистолет и стрелять?
Тут уже в свою очередь удивилась я.
— Я могу за себя постоять; а ты?
— Я не умею стрелять. И надеюсь, мне в жизни не придется это делать.
Взволновавшись, я принялась настаивать, что он непременно должен отправиться со мной в тир. Дуэли в то время случались нередко, особенно среди представителей «четвертого сословия». Я не сомневалась, что рано или поздно владельца популярной газеты вызовут на дуэль.
Когда мы прибыли, народ в тире расступился, пропуская нас. Незадолго до того шел сильный дождь, на земле стояли лужи, и все еще моросило. Пока господа целились, слуги держали над ними большие черные зонты. У одних стрелков были ружья, у других — пистолеты. В большом белом шатре двое сражались на шпагах. В воздухе висели густые клубы порохового дыма, и пахло мокрыми опилками; красно-белые мишени были испещрены следами пуль.
Александр не лгал, говоря, что совсем не умеет стрелять. Если каждый мой выстрел был точен, то Александр попадал в цель один раз из семи, да и то если мишень была в человеческий рост.
— Давай я тебя научу, — предложила я.
Он покачал головой.
— Хотя бы научись фехтовать, — попросила я, не на шутку встревоженная.
Он пожал плечами.
— Если меня вызовут, так тому и быть. Я готов принять неизбежное.
В ту зиму в Париж приехала София — за покупками. Мы с Александром отобедали в ресторане с ней и герцогом Аргилльским, который оказался совладельцем двух каких-то газет. За обедом мужчины много рассуждали об опасностях коммунизма — новой радикальной теории, которая оказывала немалое влияние на умы и в Лондоне, и в Париже. Я с изрядной долей самодовольства улыбнулась сидящей напротив Софии, которая выглядела такой ухоженной и красивой в своем льдисто-голубом шелковом платье с горностаевой оторочкой. У нее дернулся нос — а потом губы расползлись в неудержимой широкой улыбке.
На следующее утро она приехала в гости, и мы поздравили себя с тем, как ладно у нас складывается жизнь. Мы обе покинули рамки почтенного общества, однако же, вопреки всем зловещим предсказаниям, ничего страшного с нами не случилось. В среде художников, писателей и журналистов, с которыми мы общались, не слишком пеклись о нравственности. Мы с моей милой подругой были молоды, желанны и не обременены заботами. О чем еще нам было мечтать?
Расположившись в будуаре, мы с Софией чокнулись бокалами с шампанским. Время было раннее — часы едва пробили полдень, однако нас это не смущало, а шампанское так радостно играло в хрустале.
— Ну, и вот мы в Париже! — объявила София.
— В школе мы это себе представляли иначе. Как ты думаешь, сойдет?
— Более чем, — заверила моя подруга.
— Обе мисс Олдридж гордились бы, услышав, как великолепно мы тут говорим по-французски.
Я шутила, однако София вдруг спросила меня совершенно серьезно:
— Разве ты порой не чувствуешь себя несколько неуверенно?
— Уж не собралась ли ты замуж? — встрепенулась я.
— Об этом, конечно, речь не идет. У Чарльза уже есть жена. Однако замужество — один из способов обеспечить себе будущее. Ты-то как — не собираешься?
— Мне нравится думать, что когда-нибудь мы с Александром, возможно, поженимся.
София удивилась:
— Разве он не католик?
Я пожала плечами.
— В сущности, мы с ним об этом не говорили. Но я уверена, что Александр женился бы на мне, если б мог.
— Вряд ли мать ему бы позволила.
— Это мелочи, — от души улыбнулась я и вновь наполнила бокалы шампанским: — Давай выпьем за чудесное настоящее. За каждое бесценное мгновение!
Наши бокалы зазвенели, соприкоснувшись; София улыбнулась, однако в глазах таилась грусть.
Когда она ушла, я перебрала в памяти то, что мы сказали друг другу. Ну да, конечно, я могла бы спросить Александра насчет женитьбы прямо сейчас. Только зачем? Едва ли эта тема добавит нам радости; а мы и так совершенно счастливы, сказала я себе и решила не портить дело.
Следующей весной меня пригласили в труппу театра «Порт Сен-Мартен». На своей премьере я исполнила жизнерадостную польку, затем — роскошную чувственную мазурку. Зрители пришли в неистовство — они бешено аплодировали, кричали и топали. Сцену завалили цветами; ступить было некуда. Не напрасно я целый год брала уроки у крайне требовательного балетмейстера. Теперь я танцевала с большей четкостью, легкостью и грацией. Зрители оценили это сполна.
После выступления, в уборной, я послала воздушный поцелуй своему отражению в зеркале. Жизнь прекрасна! Вчера мы с Александром отметили устрицами и шампанским наши первые полгода, проведенные вместе. Поскольку я принята в труппу «Порт Сен-Мартен», могу рассчитывать на постоянный заработок. Мне уже вполне осязаемо представлялась долгая счастливая жизнь — словно разматывалась бесконечная шелковая лента, розовая и блестящая.
После окончания спектакля ко мне пришел Александр, желая поздравить с успехом. Я встретила его широкой улыбкой:
— Как мы это дело отметим?
— Извини, — огорошил он, — у меня встреча в «Трех прованских братьях». Деловая.
Моя улыбка померкла, однако я нашлась:
— Тогда я поеду с тобой.
Александр решительно помотал головой.
— Почему это вдруг нет?
— Я запрещаю, — ответил он, чем сильно меня озадачил.
— Если ты можешь встречаться с такой компанией, то и я, разумеется, тоже.
— Ты — выше их всех. Это в последний раз. Обещаю, что больше не оставлю тебя одну.
Делать нечего; пришлось его отпустить. Я понимала, что Александр имел в виду. Пусть репутация у меня скандальная, вовсе ни к чему вдобавок пятнать ее встречей с дамами полусвета. Усевшись к туалетному столику, я задумалась. Вот уже несколько недель подряд Александр какой-то не такой — напряженный, взвинченный, нервный. Что с ним, хотелось бы знать.
На следующий вечер за ужином у Александра так дрожали руки, что он с трудом держал вилку и нож. Я пыталась выспросить, в чем дело, однако он уклонялся от прямых ответов. Обычно он с удовольствием и очень забавно рассказывал о том, как провел без меня время, однако на сей раз был молчалив и мрачен. Когда я в конце концов сама догадалась, что стряслось, он не нашел в себе сил отрицать.
— Я же знала: надо было ехать с тобой! — вскричала я.
Александр налил себе новый бокал коньяку.
— Рано или поздно это все равно бы случилось.
— Ради бога, скажи, кто тебя вызвал, — взмолилась я. — Я не допущу дуэли.
Он насмешливо фыркнул:
— Это каким же образом, позволь спросить?
— Я сама стала бы драться за тебя, если б ты позволил!
Александр потянулся ко мне и обнял.
— Знаю: стала бы. Но этому крещению я должен подвергнуться сам.
Я принялась расспрашивать о подробностях — где должна состояться дуэль, каким оружием будут драться, — и тут он вспылил:
— Оставь меня в покое! Поговорим об этом с утра.
Привстав на цыпочки, я поцеловала его, желая спокойной ночи. Страшно не хотелось его отпускать. Он прижал меня к себе, погладил по волосам.
— Поверь: тут не о чем беспокоиться.
Наутро я проснулась в шесть часов. В семь я послала ему записку. В ожидании ответа подошла к окну. Ночью обильно сыпал снег, укутав землю чистейшим белым покрывалом. Мир казался неподвижным, спокойным. Несколько снежинок опустились, кружась, с неба, неслышно легли на подоконник. Наконец в дверь постучали. Я кинулась в коридор, ожидая увидеть Александра; однако мне вручил письмо его камердинер.

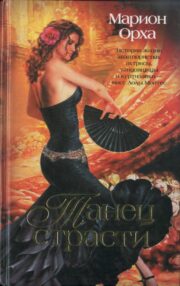
"Танец страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец страсти" друзьям в соцсетях.