Ежась от этих ласк, я пыталась сохранить трезвую голову. Хотелось закричать: «Неужто у тебя нет ни капли чувства собственного достоинства? Как ты можешь называть себя королем, наместником Бога на земле, и при этом молиться у моих ног? Ведь ты — идолопоклонник, если не хуже!»
Я толкнула Людвига пяткой в грудь; он бы свалился, не успей я его подхватить.
— Ох, — вырвалось у меня невольно.
Вид у короля сделался обиженный и смущенный.
Засмеявшись, я обняла его и поцеловала в щеку.
— Неужели мой милый старый Луис в самом деле столь ненасытен? — осведомилась я с нежнейшей улыбкой. — Должно быть, нелегко нести на своих плечах бремя королевской власти. Но когда мы остаемся вдвоем, почему бы вам не отвести душу, не рассказать о своих тревогах и заботах? Я буду свято хранить ваши тайны.
Так сильно однажды унизившись, Людвиг очевидно наслаждался своим унижением, словно обрел какую-то странную свободу. Меня поражало, до каких глубин он готов пасть. Баварский король начал выдавать мне кусочки мягкой фланели, чтобы я носила их под одеждой.
— Сама понимаешь, в каком месте, — заявил он.
А потом, когда я возвращала ему влажные лоскутки, он с упоением их нюхал. Чуть позже я придумала сбрызгивать их мускусом или цибетином. Людвиг даже не заметил разницы. В душе я негодовала. Отчего он не может любить меня той чудесной платонической любовью, которую обещал? Почему наша дружба — ну, пусть не дружба, а хотя бы ее видимость, — почему она сведена к отвратительному рассматриванию испачканных тряпиц и шарящим по моему телу пальцам? Отчего он не может держать себя с достоинством, подобающим королевской особе?
Не успела я оправиться от одного приступа малярии, как вскоре начался другой. В редкие минуты, когда прояснялось сознание, я с горечью признавала, что выстроила свою империю на зыбучих песках. Каждый поцелуй или прикосновение к Людвигу я ощущала как маленькое предательство, от любого нежного слова по коже мороз продирал. Меня преследовал один и тот же гадкий сон: по животу и груди ползут улитки, оставляя влажный липкий след. Все, что прежде казалось высоким и чистым, было растоптано и замарано; меня не отпускали ужас и отвращение.
Часто вспоминались отрывки разговоров с Эллен, моей лондонской горничной. Особенно одна ее фраза: «У всякой женщины своя цена». Помнится, тогда я возразила: «Ты говоришь, совсем как моя мать!»
Малярия не отпускала; я никак не могла поправиться. Всю свою вторую зиму в Баварии я не покидала собственной спальни. Мюнхен был завален снегом, а я лежала в жару. Часто снился кошмар: Людвиг отворяет мне грудь, будто дверцы шкафа, а под ребрами — пустота. Где должно быть сердце, его нет. Или еще: будто бы я снова в Индии, а мать желает выдать меня замуж за Томаса, о котором я даже думать не хочу; я тайком сбегаю с Джорджем — и вдруг он превращается в того самого Томаса, от которого я пыталась удрать.
Однажды утром я очнулась после особенно тяжкого приступа и обнаружила возле себя на постели недописанное письмо. Я рассматривала его с искренним недоумением. Почерк был нетвердый, многое было зачеркнуто и переписано, но все же я несомненно узнала руку. Немало часов я провела, по настоянию мисс Олдридж номер один либо два, трудясь над листами бумаги. Женственный, аккуратный, летящий, с мелкими завитушками почерк явно был моим собственным. Хотя я совершенно не помнила, как сочиняла это послание.
Оно было адресовано моей матери. Я прочла письмо раз, потом другой, третий — так трудно оказалось понять, что же, собственно, я хотела сказать.
Дорогая миссис Крейги!
Письмо было незакончено, на последней странице строчки поползли в разные стороны, как будто даже в жару я осознала, что писать бесполезно. Читая собственное творение, я прямо-таки слышала, как отвратителен этот униженный, просительный тон. Бог мой, неужто у меня вовсе нет гордости? Слезы обожгли глаза. Скомкав письмо в кулаке, я в изнеможении вновь упала на подушки.
Я не желала себе в том признаваться, однако в последнее время все чаще вспоминала мать. Каждый раз, поймав себя на том, что размышляю о наших с ней отношениях, я старалась прогнать эти мысли прочь. Порой я во сне пыталась ее отыскать, однако находила лишь зеркало в чудесно украшенной раме, в котором, однако, ничто не отражалось. Порой казалось, что малейший пустяк может каким-то чудом поправить дело. Как хотелось протянуть к ней руку, коснуться, еще один раз — самый-самый последний! — попросить… Расправив смятое письмо, я всматривалась в него, пока не ослепла от выступивших слез. В груди щемило; если бы мать позволила себе хоть немного меня любить, возможно, моя жизнь сложилась бы иначе.
Стой, одернула я себя. Ишь расчувствовалась! Вспомни: всего несколько раз тебе нужна была ее любовь, но мать неизменно тебя отталкивала. Она так же презирает слабость, как и ты. Вспомни, что она ответила, когда ты вышла за Томаса замуж и просила о помощи. Мать написала: «Ты сама заварила эту кашу, теперь и расхлебывай. А если она тебе не по вкусу и слишком солона, так ты сама в том повинна, никто другой».
Тряхнув головой, я тщательнейшим образом разорвала письмо на мелкие клочки. Они усеяли покрывало, как дешевое конфетти, и я твердо решила даже и не помышлять о том, чтобы снова писать матери.
Прошло полчаса, и я по памяти восстановила письмо. Быть может, я все-таки его отошлю? Ну какой от него будет вред? Во мне опять проснулась надежда. Кто знает, как оно повернется? Возможно, мы все-таки будем хоть изредка переписываться. Отчего же нет? Правда, нет смысла ожидать большего. Да, конечно: надо трезво смотреть на жизнь и не надеяться на несбыточное.
Месяц спустя я поднялась наконец с постели, сильно ослабевшая, буквально выпитая болезнью до дна. Кости болели; выглядела я скверно — бледная, исхудавшая. Оставшись одна, я тут же впадала в уныние; порой меня охватывали приступы необъяснимой слепой ярости. Пуще всего я ненавидела Людвига — за то, что он вообразил, будто может меня купить, и себя — за то, что назвала цену. Как всегда, мать оказалась права: заварив в Баварии гадкую кашу, я теперь вынуждена ее хлебать. Мне было семнадцать, когда мать попыталась выдать меня за старика. Желая спастись, я убежала за тысячи километров — и на тебе, оказалась в этом же самом положении! Только на сей раз я позволяю себя лапать стороннему человеку, даже не мужу. Вот мать бы в душе надо мной посмеялась! Мне отчетливо виделось, как ее аккуратное личико на миг освещает улыбка горького торжества. Возможно, я воистину ее дочь. И я научусь, как держать в узде баварского монарха. А тем временем нужно позаботиться о собственных интересах и упрочить свое положение. Нужно проявить практичность; необходимо думать о будущем. Так я себе говорила.
Глава 31
Во внутреннем дворике, затерянном в лабиринтах дворца, находилась оранжерея с коллекцией орхидей, которые Людвиг холил и лелеял лично, не доверяя это дело садовникам. Мы часто проводили там время днем, праздно сидя на парчовом диванчике среди кактусов, пальм и резных трепещущих папоротников. Когда мысли Людвига были заняты государственными делами, он принимался ухаживать за орхидеями, а я наблюдала, как он проверяет уровень влажности или опрыскивает семена, упавшие в землю вокруг материнского растения. В его коллекции был редкий фиолетово-красный экземпляр с Суматры с крошечным утолщением в серединке, формой похожим на человеческий череп, чисто-белый гибрид из восточных районов Африки и удивительная огненная орхидея с волнистыми, словно гофрированными лепестками и длинными загнутыми чашелистиками, напоминающими экзотическую бабочку.
Когда Людвиг, оторвавшись от орхидей, обращал свое внимание на меня, я охотно его услаждала — пока королевские чувства оставались более или менее платоническими. При первых же признаках более приземленной, физической страсти я немедленно меняла линию поведения. Стареющий мужчина, будь он хоть трижды король, чрезвычайно уязвим и обидчив; я видела это по его глазам.
— Как сильно ты меня любишь? — поддразнивала я его, покусывая мочку уха, касаясь носа кончиком языка.
Намеренно касаясь грудью его рук, я снимала воображаемые пушинки ему с плеч. А если объятия Людвига становились чересчур пылки, стоило только заговорить о политике, как он тут же подавался прочь. Один раз он даже оттолкнул меня с такой силой, что я едва не скатилась с диванчика. Порой, на протяжении нескольких мгновений, мне чудилось, будто я могу из Людвига веревки вить и заставить сделать все, что захочу. А еще часто вспоминалось происшествие в Берлине; перед моим внутренним взором чудесный хлыст из сыромятной кожи вновь и вновь рассекал воздух. Но только сейчас он не впивался в лицо офицеру, а обвивался вокруг лодыжки баварского монарха и Людвиг тяжко падал на колени, прямо передо мной.
— Ну скажи: как сильно ты меня любишь? — поддразнивала я наяву.
Когда в газетах меня стали называть самой могущественной женщиной Баварии, Людвиг ввел в стране жесткую цензуру. Часто газеты выходили с большими зачерненными пятнами на страницах, а на рассвете полиция рыскала по улицам и срывала свежерасклеенные листовки. Хотя большинство баварцев оставались благонадежными гражданами — католиками и консерваторами, — активное меньшинство призывало к переменам. Когда стало известно, что я имею большое влияние на короля, ко мне пошли толпы студентов и радикалов; одни просили помощи и защиты, другие толковали о заговорах. В Ирландии, Индии и оккупированной Польше люди с пеной у рта обсуждали механизмы власти; в Париже разговоры вертелись вокруг либерализма и демократии; однако в Баварии церковь и государство по-прежнему оставались едины, почти как в Средние века. Людвиг единолично правил на протяжении двадцати одного года. Желание вмешаться становилось неодолимым.
И вот, во время наших тихих занятий в оранжерее, я начала понемногу кое-что предлагать. Если бы церковь не так крепко держала за горло правительство, рассуждала я, то народ Баварии, возможно, воспринимал бы меня более благосклонно. Людвиг на эти рассуждения не отозвался, продолжая опрыскивать орхидеи, обрезая высохшие корни.
В другой раз, когда он обдумывал новые назначения в правительстве, я вытащила свой собственный список кандидатов.
— Есть люди, которые ставят под сомнение божественные права монарха, — произнесла я кротко.
Людвиг крепче сжал в руке лупу и с решительным видом перешел к янтарно-фиолетовой орхидее, привезенной из Бразилии. Затем его глаза недобро сузились.
— Это измена, — проговорил он, рассматривая внутренность цветка. Рука заметно дрожала.
Я откинулась на спинку дивана.
— Быть может, стоит ввести наполеоновский кодекс?
Людвиг отшвырнул лупу, орхидея так и затряслась на тонком длинном стебле.
— В Баварии — никогда!
Я хихикнула.
— Позволишь простонародью голосовать?
Людвиг обернулся ко мне, лицо подергивалось.
— Женщине не дано разбираться в подобных вещах. Я не желаю это больше обсуждать. Если не возражаешь, я займусь орхидеями.

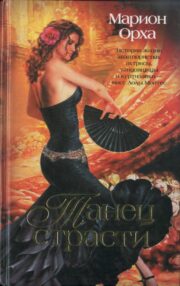
"Танец страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец страсти" друзьям в соцсетях.