Лола вскинула над головой кастаньеты. Быстрый деревянный стук раскатился по залу, и зал откликнулся громким вздохом, как будто до сих пор зрители все как один сидели, затаив дыхание.
На американской сцене и вне ее, в театре и на страницах газет Лола была царицей. Ее выступление более не было пикантным дополнением к опере или балету, Лола стала гвоздем программы. Речь больше не шла об одном-двух танцах в антракте: Лола стала актрисой и играла главную роль, и при этом начинала и завершала представление танцем. Все складывалось просто чудесно; в течение одного вечера Лола была и графиней, и танцовщицей.
Через две недели после успешной премьеры она отбросила свой «испанский» акцент и с великой охотой принялась строить собственную жизнь совершенно по-новому. Ей даже начал нравиться собственный, до нелепости странный голос, хотя он по-прежнему неважно звучал со сцены. В Америке, куда съезжались люди из самых разных уголков Европы, не было нужды в истинно испанской «подлинности». В зависимости от настроения Лола объявляла, что в ее жилах течет испанская, ирландская либо шотландская кровь — в различных сочетаниях и пропорциях. Подобно тысячам людей, приехавших в Америку до нее, она ухватилась за возможность начать жизнь с самого начала. Зачем оставаться в неподвижности, если именно движение все меняет? Из хаоса появляется жизнь, застой же приводит к смерти, вызывает медленную томительную скуку. Европа ничего не могла дать сверх того, что дала. Лола же была ненасытна: ей хотелось нового, неизвестного, неоткрытого, ей нужны были новые люди и впечатления. Она жила и видела непрерывный сон о том, какой может быть жизнь — более насыщенной, яркой, сияющей. «Реальность» оказалась чем-то вроде ненужного наследства, она была похожа на бронзовую вазу, которой давно не касалась хозяйская рука; эта реальность требовала, чтобы ее отмыли и как следует начистили, а еще лучше — оставили как есть и позабыли.
В первые несколько дней Лола всюду слышала ирландскую речь. Уроженцы Слайго, Дублина, Вексфорда, Корка. В порту она как-то раз обернулась, заслышав знакомый ирландский выговор, и увидела супругов, которые торговали каштанами и печеными яблоками. Лола шагнула к ним, желая расспросить, откуда они приехали, как вдруг вспомнила, где уже встречала эту пару. В поместье, принадлежащем отцу Томаса Джеймса, двое несчастных тащились по дороге с тележкой, нагруженной скудными пожитками, а за спиной у них пылал дом, из которого их выселили. Та худая изможденная женщина, босая, с диковатым взглядом, отводила глаза. Эта же стояла, уперев руки в пухлые бока, и глядела Лоле прямо в лицо. Лола виновато улыбнулась и двинулась дальше. По пути в гостиницу она вдруг заметила женщину, невероятно похожую на Брайди. Лола чуть не позвала ее, да вовремя придержала язык. Женщина приблизилась, и Лола хорошенько ее рассмотрела: пухлая улыбчивая дама шагала в коричневых башмаках, опираясь на руку преуспевающего торговца. Казалось, в Нью-Йорке полным-полно приезжих ирландцев. В клетчатых жилетах, в шалях из шотландки и в начищенных новых башмаках, эти новоиспеченные американские ирландцы были горды, шумливы и дерзки.
В Америке все было новым, тут каждый словно рождался заново. На этой земле в первую очередь имели значение слова «здесь» и «сейчас». Из Нью-Йорка Лола двинулась по северо-восточным штатам, по пути оттачивая и улучшая свой спектакль. Американским зрителям требовалось нечто, отражающее их собственный опыт и переживания. Поначалу Лола исполняла тирольский танец, баварский народный танец, венгерский чардаш, испанскую качучу, а затем поняла: национальность и происхождение не значат ровным счетом ничего, здесь требуется некое сочетание всего европейского в целом. Америка желала получить нечто вроде картины, которую можно воспроизводить снова и снова, продавая бесчисленные репродукции. Театральные роли игрались и забывались, а один-единственный танец мог вдруг превратиться в эмблему, сделаться символическим. Американцы жаждали чего-то нового, свежего — того, что способно было ошеломить новизной, однако при этом имело глубокие корни.
Лола представила им свой собственный «Танец с пауком». Движения она взяла из олеано — ту самую яростную чечетку, от которой мужчин пробирала дрожь тайного мазохистского удовольствия, а женщины вздрагивали от мысли, что другая женщина, оказывается, может не только чувствовать ярость или презрение, но даже способна показать это другим. Древняя, освященная веками тарантелла получила новое имя и сделалась сенсацией.
Смертельно ядовитый паук заползает в одежду молодой невинной девушки. Страшась за собственную жизнь, она отчаянно трясет юбки, пытаясь избавиться от паука. Наконец он падает наземь, и девушка яростно его топчет. Затем, в порыве бесконечного торжества и облегчения, она радуется спасению.
Это был грубый, первобытный, страстный танец, одновременно незамысловатый и полный скрытого смысла. В Бостоне газеты ратовали за бойкот, в Филадельфии заранее писали, что это зрелище не подходит уважаемым дамам, в Коннектикуте было предъявлено первое обвинение в непристойном поведении, в Пенсильвании несколько джентльменов последовали за своими дамами, которые сочли нужным покинуть зал. Часто Лола танцевала перед аудиторией, состоявшей из одних только мужчин; а в Нью-Орлеане, наоборот, было полно дам, которые засыпали сцену цветами. (Разумеется, женщины этого южного штата, у которых в жилах текла кровь испанцев и креолов, понимали, что такое огонь и страсть, однако речь сейчас не об этом.) Одной из любимых газетных вырезок Лолы была статья, опубликованная в «Альта Калифорния»; ее автор признавал, что непристоен вовсе не «Танец с пауком», а мысли, которые рождаются у зрителя.
«Мадам Монтес вытрясает из юбок паука, не являя взгляду даже лодыжки, не говоря уже о бедре! Вся пикантность зрелища — в догадках о том, что может происходить за закрытыми дверьми. Когда она с таким жаром топчет каблуком упавшего паука, в мыслях моих мелькают самые разные сладострастные и бесстыдные образы. Пусть во Франции арестовывают танцовщиц за исполнение польки! Здесь такого случиться не должно. Если вы забыли, я напомню: мы — американцы, а не европейцы. Следует ли нам запретить выступления мадам Монтес из-за того, что ее танец порождает у нас непристойные мысли, — или же нам следует откровенно признать, что она всего лишь затрагивает мысли и ощущения, которые в нас уже есть? Господа, я предлагаю второе».
Слухи о «Танце с пауком» катились впереди Лолы, газеты писали о ней задолго до ее приезда в тот или иной город. Лола сделалась полной противоположностью, более того — отрицанием женского изящества и утонченности, она стала темной тенью всех кротких и почтенных дам, что тихо склонялись над своим рукоделием. Посмотрев ее выступление, многие мужчины возвращались домой и косо поглядывали на жен: почему у нее так блеснули глаза? Что она хочет сказать этой приподнятой бровью, притаившейся в уголках губ улыбкой? Черт бы все побрал, но порой самая милая любящая супруга кажется слишком уж пылко влюбленной, как будто за ее очаровательной внешностью скрывается куда более сложная, многогранная правда. Бог свидетель: если дело так пойдет и дальше, женщины скоро потребуют себе избирательное право! По всей Америке дамы, с жадностью читавшие газеты, поспешно прятали их за диванные подушки или под рукоделие, услышав за дверью мужские шаги. В будуарах, на кухнях и в подвалах уважаемые хозяйки дома, служанки и белошвейки осторожно приподнимали юбки и пристукивали каблуками, каждая по-своему танцуя бесконечно разнообразный «Танец с пауком».
Лола выступала по всей стране, чуть ли не в каждом городе каждого штата, в больших городских театрах и в дешевых залах над салунами, где полы были посыпаны опилками. В построенном всего три года назад Сан-Франциско, где споры по-прежнему решались оружейной пальбой, ей не раз приходилось пускать в ход свой собственный пистолет и хлыст. В Сакраменто она вызвала публику в зрительном зале на дуэль.
Сакраменто ничем особенно не отличался от других, недавно выстроенных городов на границе продвижения переселенцев, и народ в зале вел себя ненамного шумнее, чем в иных театрах; но когда нескольким так называемым джентльменам хватило наглости поднять на смех «Танец с пауком» и мешать Лоле сосредоточиться, она велела оркестру замолчать и подошла к краю сцены.
— А ну идите сюда! — закричала она, указывая на розовощекого зачинщика; театральный зал был невелик, и нетрудно было рассмотреть, что главные злодеи сидят на лучших местах. — Отдайте мне свои штаны и заберите себе мои юбки; вас нельзя назвать мужчинами!
Публика пораженно смолкла, затем взорвалась смехом.
— Я буду говорить! — выкрикнула Лола.
К сожалению, зал хохотал не только над невежами, но и над ней самой. Вскоре в нее уже летели гнилые яблоки и тухлые яйца. Лола обвела взглядом море мужских лиц; зал дружно развлекался за ее счет.
— Я презираю вас, трусы! — закричала она, перекрывая шум. — И с радостью буду драться с любым, кто посмеет меня оскорбить! Ну-ка, что предлагаете — быть может, хлыст? Или пистолет?
Дирижер испугался и поднял палочку.
Никто не принял вызов Лолы.
Музыканты снова заиграли, выкрики Лолы уже невозможно было расслышать, и тогда она с неохотой заново начала танцевать. Когда на сцену упал букет брошенных роз, Лола раздавила цветы, наступив ногой. При этом смотрела она в зал, глаза гневно сверкали, и было совершенно ясно, кому она выказывает свое презрение. Зал взорвался бешеным ревом и криками, стал бросаться стульями, и Лола поспешно убежала со сцены. Из-за кулис она слышала свист и аплодисменты — того и другого в равной мере. Когда наконец был восстановлен порядок, она станцевала на бис; в зале было поломано немало скамей, а сквозь выбитые окна свистел ветер.
В тот же вечер под окнами гостиницы собралось несколько сот пьяных мужчин, которые сыграли Лоле «серенаду», стуча крышками кастрюль и сковородками. Высунувшись в окно, она потрясла кулаком; они в ответ орали и насмехались.
— Нам не нужна Лола Монтес! — голосили они под грохот посуды.
— Вы — не джентльмены!
— Ты — не леди!
— Приходите в театр завтра, — с вызовом крикнула Лола, — и можете оскорблять меня сколько хотите!
Когда наконец все разбрелись по домам, Лола обессиленно рухнула в кресло с бокалом бренди в руке. Бренди должно было придать ей сил.
— Боже мой! — сокрушенно проговорил импресарио. — Это катастрофа.
— Чепуха! — возразила она. — Сегодняшний скандал стоит больше тысячи долларов, вот увидите.
На следующий вечер зал был забит до отказа, в проходах стояли полицейские. А Лола принесла со сцены извинения публике; получилось очень изящно.
— Я всего лишь бедная беззащитная женщина, которую многие преследуют и обманывают. Простите, дорогие мои американцы; ведь вы столь же свято верите в выражение свободы, как и я; простите, если в запальчивости я не сдержала чувств. Разумеется, не следовало допускать, чтобы меня настолько вывела из себя жалкая горстка смутьянов. Когда я растоптала букет, я поступила так, продолжая древнюю традицию: паука нужно растоптать. Воистину, я никоим образом не желала обидеть или подвергнуть сомнению чувства достойных жителей Сакраменто, которые очень мне дороги. Дамы и господа, если вы желаете, чтобы я для вас танцевала, вам нужно всего лишь об этом сказать.
Зал отозвался громом аплодисментов и одобрительными криками, а потом Лолу дважды вызывали на бис.
До окончания ее выступлений в Сакраменто билеты раскупались все до единого, и больше не случилось никаких неприятностей. Горожанам мужского пола следовало бы испытывать благодарность: ведь на один бесценный вечер Лола освободила их от обязательств рыцарского поведения!
Конечно же, у Лолы бывали минуты задумчивой грусти, когда она размышляла, сомневалась, сожалела. Как любой другой, она порой ощущала себя беспомощной и беззащитной. Выпадали дни, когда она часами сидела без движения в комнате с зашторенными окнами, когда свет резал глаза и даже шепот горничной казался слишком громким и раздражал. Когда не хватало сил покинуть гостиничный номер, улыбнуться шальной улыбкой Лолы Монтес, снова стать Лолой.
В такие дни она бежала от внешнего мира на страницы своих дневников — единственное место, где не требовалось постоянно быть начеку, где она могла искренне, болезненно и последовательно быть сама собой. Последняя тетрадь была в обложке из зеленовато-синей замши; ее Лола приобрела в Лондоне. Предыдущие тетради были украшены тканями от старых любимых платьев: переливчатый синий шелк, золотисто-желтая тафта, оливково-зеленый бархат, ярко-розовый атлас. Этим тетрадям она поверяла тайные мысли и фантазии; в детстве ей это настолько помогало, что у нее не было человека ближе, чем собственное «я». С детства до взрослого состояния, при всех переездах, во всех передрягах эти дневники служили единственной связующей нитью.

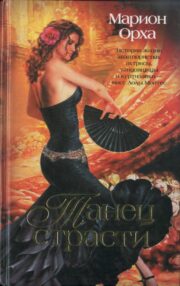
"Танец страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец страсти" друзьям в соцсетях.