– Не твое дело, – огрызнулась я.
– Не мое, но ты не до конца понимаешь, во что это может вылиться, – процедил он, – и вообще театральная кукла – вот ты кто. Все вы такие, актеры, – даже когда истекаете кровью, кровь ваша ненастоящая…
И все-таки пришел меня навестить – видно, признал, что авария произошла всерьез и я истекаю кровью по-настоящему. Бедняжка, он не имеет понятия, что, придя сюда, сам становится одним из актеров. Актерский состав моей пьесы почти полностью укомплектован, если там, в коридоре, действительно он…
Я была в сомнениях. А что, если поговорить с Зигмундом об Эльжбете? Но он ведь даже был не в курсе, что я возобновила свои встречи с ней. Узнав об этом, любимый мог бы разозлиться не на шутку. И наверняка разозлится. Нет, Зигмунд отпадает. А их дочь? Она определенно знает обо всем, поэтому и не хотела разговаривать со мной о своей матери. В один из дней Эльжбета открыла мне дверь, не переставая при этом перебирать четки в руке и бормоча молитву. Это длилось не меньше пятнадцати минут.
– Молилась за упокой души родителей, – сказала она наконец нормальным голосом. – Чаю выпьешь?
Однако потом, нервно потеребив наручные часики на запястье, чаепитие отменила, сославшись на то, что может опоздать в костел.
То, что с ней творилось, удручало меня все больше и больше. Теперь ее состояние беспокоило меня даже сильнее, чем тогда, когда я заподозрила ее в отождествлении с Мадленой. Быть может, потому, что сама через такое прошла. И узнала заключавшуюся в этом опасность. Тут я не в силах была помочь. Сложно было представить, что кто-то в здравом рассудке до такой степени может погрузиться в мир иллюзий. Ну, на самом деле, скажите, как вполне вменяемый человек может так рьяно участвовать во всех религиозных обрядах? Диалог с Богом нужно вести осторожно…
Поздним вечером, когда мы с Зигмундом уже лежали в постели, я спросила его, верующий ли он человек.
– Верующий во что?
– В Бога.
Зигмунд шумно вздохнул, что означало неодобрение:
– А у тебя есть ко мне другие вопросы?
– А у тебя ко мне?
Он рассмеялся:
– Скажем, очень бы хотелось знать, успела ли ты мне уже изменить?
Что он имел в виду? Вернее, кого? А еще точнее, кого и что? О чем вообще речь? О «Кабале святош»? Или он ревнует меня к Дареку?
– Ну что же ты? Я жду ответа.
– Я должна сперва понять, что ты подразумеваешь под изменой, – ответила я осторожно.
– Меня интересует факт физической измены, которую совершают с чужим телом в в чужой постели.
«А если это тело не совсем чужое?» – невинно подумала я.
– Ну, так я дождусь ответа?
– Скорее всего, нет, – отрезала я, – представь себе, я сильно разочарована твоим чересчур узким подходом к проблеме измены…
Маргарита… ее образ в моем воображении постепенно обрастал плотью, приобретал характерные черточки. Я заходила то с одной, то с другой стороны к своей героине, присматривалась, можно даже сказать, принюхивалась, но все еще недоверчиво, сохраняя некоторую дистанцию. Наши репетиции пока не сдвинулись с чтения по ролям – или, как предпочитают говорить многие, с «застольных читок». Я билась над эпизодом, когда Маргарита сидит на скамейке в Александровском саду. Мимо проходят люди, мужчины окидывают ее оценивающими взглядами. А Маргарита на них – ноль внимания.
Какой-то молодой человек, покосившись на хорошо одетую, интересную женщину, решился присесть на скамейку рядом с ней, но она так мрачно поглядела на него, что он тут же вскочил и быстрым шагом удалился. А героиня подумала: «Почему, собственно, я прогнала этого мужчину? Мне скучно, а в этом ловеласе нет ничего дурного…»[8]. Маргарита понурилась и вздохнула. И тут она меняется в лице, вспомнив свое утреннее предчувствие – сегодня что-то произойдет. «Да-да, случится!» – восклицает она про себя.
Из-за этой сцены у меня даже произошла ссора с режиссером – поначалу он хотел, чтобы Маргарита говорила этот внутренний монолог громким голосом. Я возражала.
– Да кто здесь режиссер? Я или вы?
– Но ведь мы находимся в процессе работы над ролью, – не сдавалась я.
Он иронически фыркнул:
– Ну что, рассказать смешную историю, которая произошла на съемках фильма «Пан Володыевский»? Там есть такая сцена, когда Володыевский выбивает саблю из ладони Баськи. Игравшей эту роль актрисе это не понравилось, и она предложила, чтобы сцена была изменена таким образом, что это она побеждает Володыевского. Смех, да и только! Кстати, абсолютно правдивая история, мне сам Лонцкий рассказывал!
– Я не предлагаю вам вносить столь кардинальные изменения, всего лишь хочу донести до зрителя внутренний монолог героини…
– Ну-ну, попробуйте…
И я попробовала. К моей радости, он признал, что получилось совсем неплохо. О господи, а если бы он настоял на своем и мне пришлось бы громко произносить: «Мне скучно, а в этом ловеласе нет ничего дурного…»?! Каким тяжким трудом зарабатываем мы, артисты, свой кусок хлеба…
Повсюду таская с собой текст новой роли, я постоянно возвращалась мыслями к Эльжбете. То, что сейчас с ней творится, происходит не без моего участия: может, Мадлена не столько подмяла ее под себя, сколько указала ей дорогу – дорогу к бегству. Когда я с ней познакомилась, она забывалась с помощью бутылки. Теперь посещает костел. Разумеется, это совсем другое, но, опять-таки, не выход. Ну не должна ортодоксальная религиозность стать целью ее жизни – что она, ксёндз или монашка?
Почему я так беспокоилась за нее? Может, потому, что меня продолжали мучить угрызения совести? С другой стороны, разве это моя забота, а не Зигмунда? Но он никогда не оглядывался назад, в прошлое. Как признался в одном интервью, в этом заключался его главный жизненный принцип. На меня он что, тоже не оглянется, если окажется, что мы оба совершили ошибку, вступив в брак? Или он считает, что у нас все должно получиться, потому что я снабжаю его молодыми гормонами?
Как-то днем я заглянула в книжный – люблю иногда полистать новые книги, правда, покупаю их теперь редко: читать стало некогда, если только на каникулах, на пляже. Поэтому и просматриваю новинки возле книжного прилавка. Однажды не смогла оторваться и прочитала от корки до корки небольшой томик поэзии. Так вот, зайдя в книжный на Новом Святе, я обратила внимание на обложку книги, которая отбывала срок в туалете у Дарека. Поразмыслив, я ее купила. Возможно, из духа противоречия – хотела проверить, действительно ли книга настолько скандальная. И убедилась, что мужчины любят преувеличивать. Как я и предполагала, это были горькие жалобы жены актера, точнее, его вдовы, у которой была нелегкая жизнь. Она стала тем самым «поставщиком» молодых гормонов и, желая того или нет, вынуждена была за это платить. Там, помимо пустяковых обвинений по мелочам в адрес недругов и друзей, были записки о трудной любви. Особенно меня взволновало начало повествования. Когда Лонцкий стал ректором, она еще была студенткой, и по понятным причинам им приходилось скрывать свои чувства от других. «Никто ни разу не заметил, как, проходя мимо меня, выслушивающей чей-то монолог в коридоре театра, он совал мне в ладонь записку или какой-нибудь талисман, никто не замечал, что он мог подхватить мою недокуренную сигарету или быстро допить остатки кофе из моей чашки в буфете театральной школы…» Определенно, Дарек переборщил, осуждая жену своего идола за то, что она была его женой… Я тоже жена, только моя ситуация несколько отличается от ее, хоть я и принадлежу к тому самому «контингенту молодых гормонов». Если бы мы были с ней знакомы, могли бы обмениваться опытом. Правда, я связала свою судьбу с человеком, который глубоко в себе носил комплекс недооцененности. Лонцкий осознавал свое величие как актер, и этого никто не мог у него отнять, хотя его прошлое мстило ему жестоко. Ненужный, попросту бессмысленный флирт с коммунизмом ему припомнили позже, закрыв перед его носом двери почти всех театров. Говорят, он везде стучался со своим лауреатством, но никто не открыл. Только Познань. Однако было уже поздно: его надорванное, подштопанное хирургами сердце не выдержало.
Сравнение наших браков могло бы оказаться не в мою пользу, если бы не моя профессия. Она, театральный критик, существовала как бы рядом с театром, а я – внутри его. Принципиальная разница. Жена Лонцкого стояла сбоку, наблюдая, как театр пожирает ее мужа, и ничего не могла с этим поделать, а мы с Зигмундом страдали от этого в равной степени. Я убедилась в этом совсем недавно, когда до меня впервые дошло, что я не всегда могу выполнить свою актерскую задачу… До этого мне казалось, что достаточно получить роль, чтобы сыграть ее. Разумеется, я не была идиоткой и не воображала себе, что достаточно выучить текст, чтобы потом произнести его на сцене. Я знала, сколько надо вложить усилий в роль, но в конце всегда выходила победителем. До того дня, пока Бжеский не вошел в мою гримерную и не сообщил, что Эльжбета не явилась в театр…
Почему же я постоянно думаю о ней, волнуюсь? До такой степени, что пошла на эту рискованную инсценировку специально ради нее, чтобы показать ей, что в жизни главное… Тут уж она вынуждена будет меня выслушать, ибо здесь на ее глазах произойдет чудо – воскрешение спящей, не хочу сказать «наполовину умершей», хотя ко мне здесь именно так все и относятся… Бессознательное растение, за которое дышат искусственные легкие.
И никому не приходит в голову, что это растение мыслит!
Работа над ролью Маргариты по-прежнему больше напоминала борьбу. Я чувствовала, что моя собственная шкура стала непроницаемой. Меня сковывал страх перед слишком тесным слиянием со своей героиней, как будто из-за этого со мной должно было произойти что-то нехорошее. А ведь суть профессии именно в этом – отдавать частичку себя своим героиням. Прежде это было для меня чем-то естественным, до той фатальной премьеры. И как мне дальше существовать в своей профессии, если я сделалась такой осторожной и подозрительной? Все это не способствовало развитию моего таланта, если, конечно, я его еще не потеряла окончательно. Дополнительные сложности возникали из-за того, что Маргарита была мне духовно чужда. Ирину я поняла сразу, юную Джульетту – тоже, даже героиня «Стеклянного зверинца», которую я сыграла в телевизионной постановке, была мне ближе. У каждой из них была своя жизнь, свой опыт, но они были молоды, как и я: Арманде – семнадцать, не говоря уже о Джульетте. А Маргарита была зрелой женщиной. Несмотря на то что, когда мы ее узнаем у Булгакова, ей всего тридцать лет, по своей ментальности она намного старше… возможно, все дело в лежащей на ней печати тоски… Мне что-то мешало понять ее. Чем большим было мое желание приблизиться к ней, тем на большее сопротивление я наталкивалась. Не с ее, разумеется, стороны, с моей… я должна была родиться на сцене и называться Маргаритой, вплоть до последнего представления. В общем, не любила я Маргариту, потому что не понимала, как ее надо играть. Все, что происходило на репетициях, с моей стороны было чистым обманом, который пока был незаметен ни коллегам, ни режиссеру. Я только делала вид, что я Маргарита, а сама совсем не была ею, и в какой-то момент это должно было выйти наружу. Во время репетиций у меня частенько возникало такое чувство, что катастрофа неминуема. Впрочем, вполне возможно, что моя интуиция меня обманывала. Перед той премьерой у меня, например, не было никаких нехороших предчувствий, более того, я была полна надежд и предвкушения, а что в итоге получилось? В одну минуту все рухнуло. Так может, сейчас будет наоборот? Мои черные мысли развеются как утренний туман. Надо только найти способ справиться с собой, преодолеть возникшую преграду в мозгу, избавиться от страха возвращения Арманды… которой я, без всяких задних мыслей и опасений, позволила облачиться в мою собственную шкуру.
Я даже думала всерьез, не пойти ли на попятный и не отказаться ли от роли. Но поздновато спохватилась – репетиции шли уже две недели, а кроме того, были ли у меня гарантии, что это не повторится при работе над новой ролью? Нет, мне надо было победить саму себя, свой страх! А кстати, она ведь тоже боится. Маргарита постоянно боится. Быть может, это нас сблизит?
Вечером я между прочим спросила у Зигмунда, приходилось ли ему играть то, что он не в состоянии был понять.
– Что ты имеешь в виду? – спросил он, внимательно всматриваясь в меня.
– Ну… бывало ли так, что ты не чувствовал слияния со своим героем, не идентифицировал себя с ним?
– Ничего подобного и не может быть. Ты получаешь контур, который должен заполнить. Не можешь же ты идентифицироваться с контуром, и вообще, это дело режиссера. Он – творец целого. Актер, даже самый гениальный, сам не сыграет, если только не станет сам себе режиссером, к тому же великим, а такое случается редко… – Он взглянул на меня с легкой усмешкой: – Актерский талант ничего общего не имеет с личностью актера, с его интеллектом. По мне, талант – это умение актера сотрудничать с режиссером. Чем профессиональнее актер, тем лучше он это умеет делать. А посему отправляйся в кино и больше смотри на режиссерскую работу, а не на исполнителей. Мне уже доводилось видеть Хакманна, да что говорить, того же Де Ниро в плохой форме.

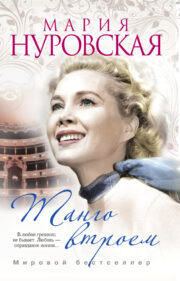
"Танго втроем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танго втроем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танго втроем" друзьям в соцсетях.