Дарек пожал плечами:
– Да мне он до лампочки, лишь бы тебя оставил в покое.
– Он дал мне шанс.
– Он для себя приберег этот шанс! Неужели ты не понимаешь, зачем он это делает?! Ему понадобилось новое лицо. Тем самым он хочет обратить внимание на себя, на свою постановку.
Теперь пришла моя очередь пожимать плечами.
– Да ведь в его спектакле играют одни звезды. Пригласив на роль меня, человека неопытного, он сильно рискует. Даже в большей степени, чем я.
– Ну и дура же ты! Вот увидишь, твой дебют провалится! Сама напросилась!
Я не собиралась принимать близко к сердцу несправедливые нападки Дарека. Он вел себя как ревнивец из комедии ошибок, и меня это смешило. Ну, сами посудите, кто я и кто такой пан Зигмунд Кмита! Однако это совсем не значит, что я его идеализировала. Я не считала его выдающимся актером. По-моему, ему больше подходила роль педагога: Зигмунд досконально знал, как надо играть, но это вовсе не свидетельствует о том, что он умел это делать. Гамлет в его исполнении не вызвал во мне особого восторга, но рассказывал он об этой роли увлекательно. После ссоры со своим парнем во время репетиции я присмотрелась к Зигмунду Кмите повнимательнее. На нем были черная водолазка и вельветовые штаны, сильно стянутые на поясе ремнем. Было видно, что ради сохранения хорошей фигуры он немало времени уделял физическим тренировкам. Кстати, преподаватель охотно говорил об этом в своих интервью. Что, мол, смерти не боится, относится к ней как к чему-то неизбежному. Но боится старческой немощи, потери физической формы. Поэтому ходит в фитнес-клуб, играет в теннис. И это было заметно. Все же злые рассуждения Дарека о нем мешали мне, отвлекали от главного. А главным была она, Ирина. Ее правоту я принимала безоговорочно. Это она говорила о Маше, что та вышла замуж в восемнадцать лет, потому что Кулыгин казался ей самым умным человеком на свете. А потом перестал казаться. Разумеется, человек он был добрый, но далеко не самый умный. Как же эти слова перекликались с моей жизненной ситуацией! Он, мой парень, тоже перестал быть для меня самым умным. И сдается мне, моим парнем: в мире, где я теперь находилась, ему места не было. Безнаказанно перемещаться в нем мог только тот, кто этот мир творил, создавал.
– Оля, вы произносите текст слишком тихо, на задних рядах вас никто не услышит!
– По-моему, Ирина должна говорить тихо, – защищалась я, преодолевая смущение.
– Вот так и надо сыграть: громко сыграйте ее тихую речь! – услышала я в ответ.
Это, наверное, самое важное замечание, которое я от него получила. В таком ключе я и решила играть роль Ирины. Играть? Разве я играла? Я была ей…
Наступил день премьеры. Странно, но я не чувствовала волнения. Видела напряженные лица своих партнеров по постановке и удивлялась своей отстраненности. Как будто меня все это не касалось, будто не я должна была впервые в жизни выйти на настоящую сцену. Я вышла, вернее, на ней появилась моя Ирина. Первое действие, второе…
– В Москву! В Москву! – говорила Ирина.
А потом произнесла свой заключительный монолог:
– Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания, а пока нужно жить…
Сижу в гримерке. Ни одной мысли в голове. Как я сыграла свою роль? Хорошо, средненько или совсем провалилась? Кому так аплодировали, вызывали на поклон? Раз, другой, третий… Десятый. Надо снять с себя театральный костюм – белое платье с кокеткой, обшитой белыми кружевами, но оно будто срослось со мной. И тут входит он, режиссер:
– Ну что ж, совсем неплохо, Оля.
Мы смотрим друг на друга и улыбаемся. А ведь правда, голова у него крупновата, думаю я лениво, будто одним полушарием мозга. Кто-то еще зашел. Ага, знаю, кто это. Адам Яловецкий, знаменитый театральный критик, пишущий статьи для одной серьезной газеты. Мужчины, кажется, недолюбливают друг друга. Кмита, холодно кивнув, уходит.
– Дорогая Ольга, – заговорил Яловецкий, – будь я помоложе, упал бы перед тобой на колени, а так только склоняю голову. Ты – самая лучшая Ирина, которую я видел за свою долгую жизнь. У тебя, девочка, необыкновенный талант, только не дай загубить его на корню. Рановато немного начинаешь, но что делать. Зато на нашем театральном небосклоне зажглась новая яркая звездочка. И все-таки помни, девочка: от неба до ада – рукой подать. Гораздо ближе, чем ты думаешь. Не расслабляйся, будь начеку, осторожно относись к любого рода предложениям. Думаю, одной встречи с этим режиссером пока достаточно. Будет требовать большего, гони его.
– Но это же мой учитель, – ответила я обескураженно.
– В том-то и беда.
«Чего ему от меня надо? Зачем он все это говорит? – подумала я враждебно. – Пусть уходит».
– О, нет, – слышу я его голос, – так просто ты от меня не отделаешься. Я как тот человек, которому после сорока дней блуждания по пустыне без глотка воды вдруг подали бокал вина.
– Да вас бы давно на свете не было! – рассмеялась я.
– Значит, вы сумели воскресить мертвого.
До конца я ему не доверяла. В голову закрались подозрения, что он немного подшучивает надо мной. Но уже наутро в газете появилась его рецензия. «Спектакль должен называться „Младшая сестра“», – прочитала я. «Так значит, успех», – подумала безучастно. На самом деле меня это не очень-то интересовало. Самым важным было снова выйти на сцену – только там я становилась собой.
Пришла мама. «Оленька, Оля», – слышу ее голос. Врачи велели ей разговаривать со мной. Вот она и разговаривает. Все-таки подло я поступаю с матерью. Надо было посвятить ее в свою тайну. Но не могу, не могу…
Каждая девушка помнит свою первую ночь с мужчиной. Даже если на следующий день они с ним разбежались в разные стороны. А для меня стало сокровенным другое посвящение, которое я испытала благодаря Зигмунду. Это он взял меня за руку и вывел на сцену. Вот только не знаю, считать ли это великим счастьем или великим несчастьем. Сейчас я чувствую себя несчастной, но только потому, что все так запуталось и Зигмунд был несвободен, когда мы узнали друг друга. Впрочем, если бы я с ней не познакомилась, быть может, смотрела бы на это иначе. А может, и нет. Считала бы, что устроила свою личную жизнь. А разве не так? Ведь меня полюбил человек, которого я любила. Но я была счастлива с ним только в театральной действительности – там все условно. На сцене могут стареть и молодеть по желанию, настоящий возраст при этом не имеет значения. И там мне не нужно думать о ней. У нее такие же шансы, как и у меня. От нее зависит столько же, сколько от меня. Она может выйти из тени. Ей не надо неподвижно стоять за кулисами, следить за каждым моим жестом и контролировать каждое произнесенное мною слово. Возможно, из-за этого я начала заикаться. Могла произносить без запинки только театральные монологи. Например, монолог Ирины. Спектакль шел в переполненном зале, несмотря на то что времена для театра были непростые.
– Они приходят посмотреть на младшую сестру, – говорил Зигмунд не без ехидства.
Он не мог простить Яловецкому, что тот в своей рецензии ни словом не обмолвился о режиссере. Будто спектакль поставился сам собой.
Я защитила диплом, и меня приняли в труппу того театра, в который я когда-то ездила из своего городка. Тогда, правда, я была лишь зрителем.
Все шло прекрасно, режиссеры давали мне большие роли, такие как Джульетта или Невеста в «Свадьбе» Выспяньского. Как правило, рецензии были хорошие, но уже не такие восторженные, как после моего сценического дебюта. Во всяком случае, Яловецкий не оставлял меня без внимания, дотошно анализировал каждую мою роль, иногда ругал, но чаще хвалил. Между нами возникло что-то вроде дружбы, хотя встречались мы с ним только в моей гримерке. Он заходил после спектакля, и мы обсуждали постановку. Зигмунд бесился, его раздражали эти визиты, может быть потому, что он чувствовал: Яловецкий его в грош не ставит. А как известно, актер нуждается в признании или хотя бы в одобрении.
– Не обращай ты на них внимания, Оля, – предостерегал меня критик. – Актеры – люди сложные, душонка у них мелкая, тебе надо всегда помнить об этом.
– А я кто? Ведь я тоже актриса.
– Ты?! Ты – богиня, – говорил он с усмешкой.
Я по-прежнему жила с Дареком в тесной однушке на окраине города. Теперь наши отношения скорее можно было бы назвать дружескими. Мы спали вместе очень редко. Но такое случалось, не скрою. Виделись с ним только по вечерам, можно сказать, ночью, после моего возвращения из театра. Когда утром Дарек уходил, я обычно еще спала. Мне было довольно одиноко. Друзей не было. Пока училась в театральном, меня там любили и до сценического дебюта часто приглашали на разные вечеринки. После неожиданного успеха вокруг меня образовалась пустота.
– Это нормально, – объяснял мне Зигмунд. – В театре дружбы не ищи, здесь царит дух соперничества.
С Зигмундом мы практически не виделись – он работал в другом театре, а я уже не ходила на занятия в театральную школу. Иногда он звонил, спрашивал, как у меня дела. Но в один прекрасный день позвонил по вполне конкретному делу.
– Задумали мы гастроли – поколесим по городам и весям с «Тремя сестрами», – сказал он. – Старым составом. Надеюсь, присоединишься, не подведешь?
Я даже обрадовалась. Постановка, в которой я была занята в театре, сошла с афиши, а жалованье мое было совсем символическим. Гастроли в провинции могли поправить мое материальное положение.
По коридору идут медсестры – только их деревянные сабо так постукивают при ходьбе. Остановились возле моей двери.
– Здесь лежит эта актриса, – долетает до меня шепот.
– Можешь громко говорить, она все равно ничего не услышит.
Мое возвращение в спектакль было похоже на возвращение домой. Настоящего дома у меня никогда не было. Мать, вечно замотанная, воспитывала меня одна. Утром убегала на свою основную работу, вечерами подрабатывала билетершей в кинотеатре.
– Кем вы себя чувствуете, – спросил меня как-то дотошный Яловецкий, – дочерью чиновницы или билетерши в «Парадизе»?
На секунду я задумалась.
– Ни то ни другое. Мы с мамой были как сестры…
Критик прищелкнул пальцами:
– Уходишь от ответа, маленькая моя, но я найду способ справиться с тобой.
«Я сама с собой с трудом справляюсь», – подумалось мне. Пока я не понимала, как сложится моя дальнейшая жизнь. Роли приходили и уходили, потихоньку что-то от меня отнимая. Каждый раз возникало ощущение потери, будто от моей души отрезали по кусочку. А ведь мне было немногим больше двадцати. Что же станет со мной через несколько лет? Покой и гармонию в мою жизнь вносила роль Ирины. Мы накрепко срослись с ней: она была мною, я – ею. Когда она стояла, опершись на колонну в доме Прозоровых, и произносила свою реплику: «Зачем вспоминать?», все вставало на свои места. Надо сказать, что в нашем коллективе царила доброжелательная атмосфера. Мы называли себя «труппой бродячих актеров» и старались не обращать внимания на трудности в поездках. Из города в город мы переезжали в видавшем виды микроавтобусе, ночевали в гостиницах, в которых бывало по-разному. С наступлением реформ Бальцеровича Польша начала меняться на глазах, приватизация шла полным ходом, однако большинство периферийных гостиниц все еще оставались в руках государства, и это чувствовалось. Серое, застиранное постельное белье, на окнах занавески жутких расцветок, а в ресторане – несъедобная еда. Особо по этому поводу мы не расстраивались, точнее, многого старались не замечать. Возвращаясь, уставшая, после спектакля, я не рисковала принимать гостиничную ванну – она казалась мне грязной. Я просто вставала под душ и, сама того не желая, устраивала целый потоп в ванной.
Был очередной городок на нашем пути. Как обычно, после третьего акта я вернулась в свою гримерку. Предстояло отыграть четвертый. Присев в кресло, заметила на поручне другого кресла черную водолазку Зигмунда. Режиссер частенько ходил в ней. Очевидно, ему стало жарко и он скинул ее здесь. Гримерка была одна на всех.
Глядя на эту водолазку, я подумала: сейчас мне предстоит произносить слова в диалоге с Тузенбахом: «Я не любила ни разу в жизни. О, я так мечтала о любви, мечтаю уже давно, дни и ночи, но душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян».
Я подошла и прикоснулась к черной мягкой материи. И внезапно пришло озарение. Да ведь я люблю! Давно уже люблю этого человека, быть может, даже с того самого дня, когда на первой репетиции он взял меня за подбородок и, заглянув в глаза, сказал:
– «Три сестры» – пьеса, где все происходит внутри героев. В их головах и душах. И запомни, это пьеса не грустная, а ностальгическая! – На меня тепло смотрели его глаза. – Мы ведь понимаем друг друга?
Я кивнула, а мои растрепавшиеся волосы коснулись его щеки. Он смешно сморщил нос…
Начался четвертый акт. Я вышла на сцену, но играть было неимоверно трудно. Временами текст как будто улетучивался из головы, а произнося слова: «Я не любила ни разу в жизни», про себя я твердила: «Неправда, неправда», и вдруг испугалась – как бы ненароком не произнести этого вслух…

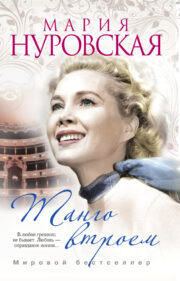
"Танго втроем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танго втроем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танго втроем" друзьям в соцсетях.