И снова, прежде чем она успела что-то сделать, мысли вернулись к той части разговора с графом, когда он попытался оправдать поведение ее матери.
«Сколько лет было вашему отцу, когда он умер?»
Селеста как будто услышала голос графа и свой собственный: «Шестьдесят семь».
— Ну и пусть папа был на двадцать пять лет старше мамы, — пробормотала она. — Это не оправдание. Она была его женой и нашей матерью! Ей следовало остаться с нами!
И снова голос графа: «Любовь — экстаз и сокрушительная сила, сопротивляться которой невозможно».
Селеста повернулась на другой бок.
— Нет, я никогда не влюблюсь, — прошептала она. — Никогда! Никогда!
Но пока Селеста повторяла эти заклинания, в голове ее билась другая мысль: а все-таки что это такое?
Глава третья
На следующий день около одиннадцати часов утра граф Мелтам уже ехал по Пикадилли.
Дорога от Монастыря, бывшего поместья Роксли, до Лондона заняла меньше двух часов; кони графа были великолепны.
Он направлялся в Карлтон-Хаус, на встречу с королем.
Все последние месяцы плотники, столяры, маляры и обойщики не покладая рук трудились в Вестминстерском аббатстве и Вестминстерхолле.
На следующий день, 19 июля, была назначена коронация Георга IV.
Король ожидал графа посреди нарочитого великолепия Карлтон-Хауса, в котором древних сокровищ и бесценных произведений искусства больше, чем в рождественском пудинге изюма, во всем блеске восточной роскоши, отличавшем Китайскую гостиную.
Лицо его при появлении старого товарища осветилось радостной улыбкой.
— Вас не было в Лондоне, Мелтам, и я уже боялся, что вы забыли о нашей сегодняшней встрече.
— Сир, я только что вернулся из поместья и, уверяю вас, ни на минуту не забывал о том, что вы желаете меня видеть, — сказал граф.
— Хочу, чтобы вы взглянули на мои коронационные одежды, — продолжал король. — Их закончили шить только вчера, а я, как вам прекрасно известно, дорожу вашим мнением.
Он произнес это с пылом и живостью, присущими скорее юноше, а не мужу, коему шел пятьдесят девятый год.
Король, как уже заметил граф, избавился от рыжеватых бакенбард, до недавнего времени щетинившихся на его щеках колючей порослью и придававших его лицу вид холерический и даже буколический.
Теперь он выглядел на удивление моложавым и бодрым, что объяснялось, вероятно, вполне понятным волнением перед предстоящей коронацией.
Король лично и во всех деталях распланировал грядущую церемонию, и, надо признать, никто не сделал бы это лучше.
Следуя за ним (его величество нес свое грузное тело с поразительной легкостью), граф оказался в вестибюле, где висели коронационные одежды, обошедшиеся казне, как поговаривали, в двадцать четыре тысячи фунтов.
Только на мех горностая для монаршей мантии было потрачено восемьсот восемьдесят пять фунтов.
Сшитая из алого бархата и украшенная золотыми звездочками мантия поражала воображение, а ее шлейф тянулся на двадцать семь футов.
— Думаю, к ней подойдет вот эта шляпа, — сказал король, беря в руки черный головной убор в испанском вкусе, увенчанный перьями страуса и цапли.
— Смею уверить вас, сир, вы будете выглядеть изумительно, — ответил граф.
— Члены Тайного совета будут в голубых с белым атласных елизаветинских костюмах.
Граф уже слышал об этом от леди Купер, которая, поделившись с ним сей важной новостью, злорадно добавила: «То-то все со смеху полягут!»
Мелтам, однако, полагал, что его величество, пусть и склонный порой к излишней пышности, в целом обладает хорошим вкусом, и коронационные одежды, выглядевшие в вестибюле несколько вызывающими, произведут должное впечатление в соответствующей событию обстановке.
— Я пытался все продумать и предусмотреть, — посетовал король.
— Уверен, сир, вам не о чем беспокоиться. Мы все с нетерпением ожидаем церемонии, даже если она и обещает быть несколько утомительной.
— Остается лишь надеяться, что все пройдет гладко, — чуть слышно пробормотал король.
Граф сочувственно взглянул на монарха, чьи опасения имели под собой солидное основание.
События прошлого года, и в особенности суд, на котором королева предстала перед палатой лордов, обвинивших ее в «скандальном, постыдном и порочном поведении» и посчитавших ее недостойной носить титул королевы-консорта, обернулись для него настоящей катастрофой.
И действительно, никто из правителей, занимавших равное королю положение, еще не терпел такого ущерба для своей репутации вследствие проступков супруги, развлекавшей скандалами всю Европу и доставлявшей немало радости врагам и недругам его величества.
В Генуе ее провезли по улицам в позолоченном, украшенном перламутром фаэтоне.
В Бадене она предстала перед публикой оперного театра в нелепом крестьянском кокошнике, украшенном развевающимися ленточками и сверкающими блестками.
В той же Генуе королева присутствовала на танцах в костюме Венеры, обнаженная по пояс, и откровенно демонстрировала, как доложили королю, бюст более чем внушительных размеров.
Более того, по пути в Константинополь она проводила немало времени в палатке на палубе корабля в компании личного камергера, шустрого молодого итальянца шести футов росту с роскошными черными волосами и усами, о которых один свидетель написал, что они «могли бы протянуться отсюда до Лондона».
И этому человеку королева присвоила звание «гроссмейстера ордена Каролины», учрежденного ею в Иерусалиме. О безобразном и порочащем королевское достоинство поведении обоих как на публике, так и в приватной обстановке доносили его величеству многочисленные шпионы.
Перечисленные факты были лишь малой частью свидетельств, представленных вниманию палаты лордов. К несчастью, подтвердить их могли только слуги; сама же королева пользовалась популярностью у простого народа, относившегося к ней с симпатией и сочувствием.
Отвечая на обвинение в супружеской измене, она с гордым видом бросила: «Я совершила прелюбодеяние один лишь раз — с мужем миссис Фицгерберт»[3]. Такая смелость пришлась по вкусу толпе, шумно приветствовавшей свою любимицу, когда она появилась на улице.
Заседания продолжались почти три месяца, после чего правительство поняло, что провести предлагаемый билль через палату общин не удастся, и сняло выдвинутые обвинения.
Три ночи подряд по всему Лондону жгли факелы и костры; те же, кто отказывался выражать радость по случаю одержанной победы, расплачивались за свое молчание разбитыми окнами.
Выставленный на посмешище король впал в глубочайшую депрессию и удалился в Виндзор.
Королева в полной мере воспользовалась плодами триумфа и оказанной ей общественной поддержки.
В разговоре с графом леди Сара Литтлтон заметила, что «ее величество разъезжала во всему Лондону в обшарпанной почтовой карете и ночевала в самом запущенном из всех возможных домов, дабы показать, что ее не пускают во дворец».
А всего лишь неделю назад лорд Темпл заявил, что «страх перед возможными беспорядками затрудняет установку торговых палаток по пути коронационной процессии».
Выразив свои опасения одной фразой, король не стал вдаваться в пояснения. Он прекрасно сознавал, что граф Мелтам, как и другие его ближайшие друзья, глубоко озабочен возможными инцидентами во время коронации.
— Мелтам, вы действительно думаете, что все пройдет спокойно? — осведомился его величество.
«Как ребенок, — подумал граф, — которому требуются постоянные подтверждения, что бука не придет и не утащит его в темноту».
— Уверен, сир. Вы сами приняли необходимые меры предосторожности, ясно дав понять, что ее величество не будет допущена в аббатство.
— Распоряжения я действительно отдал, но, как вам прекрасно известно, она твердо вознамерилась выставить меня дураком.
— Храбрости вам не занимать.
— Что верно, то верно, — согласился король.
Граф знал, что за кажущейся безучастностью тучного короля кроется натура не просто добродушная, но и необычайно тонкая и чувствительная.
Двадцать пять лет назад, побывав в Брайтоне на поединке, закончившемся смертью одного из боксеров, он наотрез отказался посещать впредь подобного рода развлечения и слово свое сдержал.
Его неприязнь к кровавым потехам с участием животных, в частности к травле быка собаками и петушиным боям, привела к тому, что эти забавы постепенно вышли из моды у представителей высшего лондонского света.
И наконец, самое важное, о чем сейчас никто уже, похоже, и не помнил, заключалось в том, что он всячески старался смягчить предусмотренные законом наказания и отменил множество смертных приговоров.
Граф до сих пор хорошо помнил разговор, состоявшийся у него около года назад с министром внутренних дел сэром Робертом Пилем.
— Знаете ли вы, что произошло, пока я находился в Павильоне[4]? — спросил у него сэр Роберт.
— Нет. И что же?
— Король прислал за мной за полночь.
— Для чего? — удивился граф.
— Очевидно, приближающаяся казнь некоего преступника так расстроила его величество, что он не мог уснуть. Когда я предстал перед ним, он заявил буквально следующее: «Вы должны помиловать его, сэр Роберт».
— И что вы сделали?
Министр улыбнулся.
— Разумеется, я ответил согласием, и король там же, на месте, пылко меня расцеловал.
— Боже мой! — воскликнул граф.
— При этом его величество обратил внимание на мой халат.
— Ваш халат?
— Да, довольно старый и весьма потрепанный, — объяснил сэр Роберт. — «Пиль, — воскликнул он, — как вы можете носить такой халат! Я покажу вам, каким он должен быть».
— Позволю себе предположить, что он продемонстрировал свой собственный, — усмехнулся граф.
— Вы не ошиблись, именно это он и сделал.
А потом еще и заставил меня надеть его.
Таким образом, король являл собой невероятное смешение самых разных качеств: проницательности, остроумия и крайней эмоциональности.
Но даже злейшие враги не могли пожелать ему худшей участи, чем заключение супружеского союза с принцессой Каролиной Брауншвейгской.
Граф, многократно видевший эту женщину в разных обстоятельствах и считавший ее грубой, вульгарной и неуравновешенной, не мог понять, как подобная особа могла привлечь внимание мужчины, носившего неофициальный титул Первого джентльмена Европы.
В какой-то момент он поймал себя на том, что всерьез тревожится, как бы эта взбалмошная, непредсказуемая женщина не нарушила церемонию коронации.
— За всю жизнь, Мелтам, я совершил две глупейшие ошибки, — задумчиво заметил король.
— Всего лишь две, сир? — улыбнулся граф. — Другие наделали их побольше.
— Две, имевшие серьезные последствия, — пояснил король. — Первая — это моя женитьба, вторая — тот проклятый суд.
— Согласен, ваше величество, но с этим уже ничего не поделаешь.
— Одно могу сказать вам, Мелтам, — с чувством произнес король, — ради всего святого, будьте осторожны в выборе жены.
— Ваш пример, сир, для меня наука. Пока, по крайней мере, таких планов у меня нет.
— Вы правильно делаете, что не спешите. Совершенно правильно, — одобрительно кивнул король. — Женщину можно получить и не вступая в брак, супруга же может оказаться сущей дьяволицей.
Покидая Карлтон-Хаус, граф не сомневался, что королева обязательно постарается проникнуть в Вестминстерское аббатство. Но ради спокойствия короля он не стал делиться этими мыслями.
Лорд Худ, состоявший при королеве распорядителем двора, уже открыто заявил, что доставит свою госпожу на коронацию любым способом, даже если ее придется сбросить с Тауэра.
С другой стороны, люди, отвечавшие за церемонию, были столь же твердо намерены не допустить, чтобы кто-то, пусть даже сама королева, сорвал церемонию, на проведение которой парламент выделил неслыханную сумму в двести сорок три тысячи фунтов.
Из Карлтон-Хауса граф отправился на ланч в свой клуб, находившийся на Сент-Джеймсской площади.
Едва переступив порог, он наткнулся на своего близкого друга, капитана Чарльза Кеппла, щеголявшего в форме Королевской конной гвардии.
— Хотел встретиться вчера, но мне сказали, что тебя нет в Лондоне. — Капитан пожал другу руку. — Как дела, Видал?
— Был в поместье. Знакомился с новым приобретением.
Граф сел за стол напротив Кеппла и попросил подать бокал хереса.
— С новым приобретением? — воскликнул капитан. — Так это правда! Говорят, ты выиграл в карты имение Роксли?
— На сей раз слухи тебя не обманули, — подтвердил граф.
— Боже мой! Зачем тебе еще какие-то владения? Что ты будешь с ними делать? Тебе и без того принадлежит половина Британских островов!

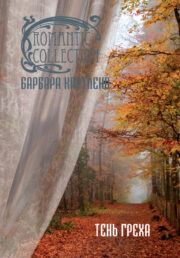
"Тень греха" отзывы
Отзывы читателей о книге "Тень греха". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Тень греха" друзьям в соцсетях.