Гейл Форман
Только один год
Лишь одна ночь
Сборник
Gayle Forman
Just One Year. Just One Night
Just One Year Copyright © 2013 by Gayle Forman
Just One Night Copyright © 2014 by Gayle Forman
Фото автора © Dennis Kleiman
© Федорова Ю., перевод на русский язык, 2017
© Рапопорт И., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Только один год
Посвящается
Марджери, Тамаре и Либбе
Взвейся ввысь, язык огня![1]
Дома мне было гораздо лучше. Но, как известно, путешественники обязаны восхищаться всем, что видят[2].
Часть первая
Один год
Один
Мне часто снится один и тот же сон: я лечу в самолете высоко над облаками. Он начинает снижаться, а меня охватывает паника от внезапного понимания, что я оказался не на том самолете и лечу не туда. Я в таких снах никогда не знаю, где мы сейчас приземлимся – в центре военных действий, в зоне какой-нибудь эпидемии или вообще в другом веке, – понимаю только, что не там, где надо. Иногда я пытаюсь спросить, куда мы летим, у человека в соседнем кресле, но не вижу лица, не слышу ответа. От звука опускающихся шасси я просыпаюсь – в поту, дезориентированный, сердце бешено колотится. На то, чтобы понять, где я (в чьей-то квартире в Праге, в хостеле в Каире), обычно уходит несколько секунд, но когда я это вспоминаю, ощущение потерянности возвращается.
Кажется, я и сейчас нахожусь в этом сне. Как и всегда, я приподнимаю шторку, чтобы посмотреть на облака. Чувствуется, как накреняются моторы, как самолет тянет вниз, в ушах появляется давление, в сердце – страх. Я поворачиваюсь к безликому соседу – но в этот раз это не какой-нибудь незнакомец. Мы летим вместе. От этого мне становится легче. Не могли же мы оба сесть не в тот самолет.
– Ты знаешь, куда мы летим? – спрашиваю я, пододвигаясь. И вот сейчас я увижу лицо, услышу ответ, узнаю, куда же я лечу…
Но тут раздается вой сирен.
Впервые я обратил на них внимание в Дубровнике. Я тогда путешествовал с парнем, с которым познакомился в Албании, и вдруг завыла сирена, прямо как в американском боевике. Он сказал, что в каждой стране у них свой звук. «Штука полезная – если забудешь, где ты, можно закрыть глаза, и сирена тебе напомнит». Я к тому времени путешествовал уже год, и мне потребовалось несколько минут, чтобы вспомнить, как они звучат на родине. У нас их рев похож на музыку, вверх-вниз, ла-ла-ла-ла, словно кто-то напевает, рассеянно, но радостно.
Сейчас сирена звучит иначе, монотонно. Мее-мее, мее-мее, словно блеянье электрической овцы. По мере приближения или удаления звук не становится громче или тише; нет, это непрерывная стена воя. И как я ни стараюсь, я все равно не понимаю, где нахожусь.
Знаю только, что не дома.
Я открываю глаза. Все залито ярким светом, он падает сверху. Мои глаза горят: многочисленные крошечные взрывы, похожие на уколы булавок, вызывают адскую боль. Я закрываю их.
Кай. Парня, с которым мы летели из Тираны в Дубровник, звали Каем. Мы пили с ним хорватское пиво на городском валу, а потом, хохоча, ссали в Адриатическое море. Его звали Каем. Он был финном.
Сирена все ревет. Я все еще не понял, где я.
Вой прекращается. Слышно, как открывается дверь, в меня брызгают водой, двигают. Кажется, что глаза лучше не открывать. Вряд ли я хочу хоть что-то из этого видеть.
Но меня заставляют это сделать, в глаза снова бьет свет – яркий, и от него так же больно, как тогда, когда я слишком долго смотрел на солнце во время затмения. Саба говорил мне, что не надо так делать, но иногда оторваться просто невозможно. Потом у меня несколько часов болела голова. Мигрень от затмения. Так в новостях говорили. Она возникает у многих, кто долго смотрел на солнце. Это я тоже знаю. Не знаю только, где нахожусь.
Теперь до меня доносятся какие-то голоса, как эхо из тоннеля. Я их слышу, но разобрать, что говорят, не могу.
– Comment vous appelez-vous? – спрашивает кто-то на неродном мне языке, но я его почему-то понимаю. «Как вас зовут?»
– Вы можете сказать, как вас зовут? – повторяют на другом языке, тоже на чужом.
– Уиллем де Руитер, – это уже мой голос. И мое имя.
– Хорошо, – отвечает мужчина. Он опять начинает говорить на другом языке. На французском. Говорит, что собственное имя я назвал верно, интересно, откуда он это знает. На миг возникает чувство, что это Брам, но, хоть у меня в голове все спуталось, я понимаю, что это невозможно. Брам французский язык так и не выучил.
– Уиллем, мы сейчас вас посадим.
Спинка кровати – кажется, я в кровати – едет вперед. Снова пробую открыть глаза. Все плывет, но я вижу яркий свет, обшарпанные стены, металлический стол.
– Уиллем, вы в больнице, – сообщает мужчина.
Да, это до меня и самого уже начало доходить. Это также объясняет, почему у меня майка в крови, хотя наличие самой майки не объясняет – она не моя. Какая-то серая, с красными буквами «SOS». Что это означает? Чья это майка? Чья на ней кровь?
Я осматриваюсь. Вижу мужчину – врача? – в халате, рядом с ним медсестра, она протягивает мне ледяной компресс. Я касаюсь своей щеки. Она распухла и горит. На пальцах теперь тоже кровь. Ответ на один вопрос есть.
– Вы в Париже, – добавляет врач, – вы помните, где это?
Я ем таджин[3] с Яэль и Брамом, пускаю по кругу шляпу после выступления на Монмартре с акробатами из Германии. Я весь потный, мы с Селин колбасимся на выступлении «Моллиер зен Молли» в «Диван дю Монд»[4]. Я бегу, несусь по рынку Барбеса, держа за руку какую-то девчонку.
Кто она?
– Во Франции, – едва бормочу я. Язык меня не слушается и напоминает шерстяной носок.
– Вы помните, что произошло? – спрашивает врач.
Я слышу топот ботинок и чувствую привкус крови; во рту ее скопилось прилично. Не зная, что с этим еще можно поделать, сглатываю.
– Похоже, вы стали участником драки, – продолжает доктор. – Вам надо будет заявить в полицию. Но сначала мы наложим вам швы на лицо, а еще необходимо сделать томограмму головного мозга, чтобы убедиться, что у вас не образовалась субдуральная гематома. Вы здесь отдыхаете?
Черные волосы. Нежное дыхание. Гнетущее чувство, что я где-то забыл что-то ценное. Я похлопываю по карману.
– А мои вещи? – спрашиваю я.
– Ваш рюкзак нашли на месте происшествия, из него все высыпалось, но паспорт остался. Как и кошелек.
Он подает мне бумажник. Там не меньше сотни евро, хотя, по моим воспоминаниям, должно быть намного больше. Удостоверения личности нет.
– Мы также обнаружили это. – Он показывает мне маленькую черную книжку. – Денег в кошельке осталось прилично, да? Значит, на ограбление не похоже, разве что вы при нападении сопротивлялись. – Он хмуро смотрит на меня, кажется, считая подобный вариант глупостью.
Сопротивлялся ли я? Голова как в тумане, похоже на дымку, которая поднимается от каналов по утрам, я всегда смотрел на нее и хотел сжечь. Мне постоянно было холодно. Яэль объясняла это тем, что я хоть и похож внешне на голландца, но во мне течет ее средиземноморская кровь. Это я помню, и то, как кутался в колючее шерстяное одеяло, чтобы согреться. Теперь я знаю, где нахожусь, но я все еще не знаю почему. В Париже меня быть не должно. Я собирался в Голландию. Может, поэтому я так по-дурацки себя чувствую.
Гори, сгорай, повелеваю я туману. Но он такой же упрямый, как и у нас, в Голландии. Или, может, моя сила воли так же слаба, как зимнее солнце. Как бы то ни было, он не сгорает.
– Знаете, какое сегодня число? – спрашивает врач.
Я пытаюсь сосредоточиться на числах, но они плывут, как листья по канаве; в этом ничего необычного. Я помню, что обычно не знаю даты. Да мне и не нужно. Я качаю головой.
– А месяц?
Augustus. Août [5]. Нет, надо по-английски.
– Август.
– День недели?
Donderdag[6], говорит кто-то в голове. Четверг.
– Четверг? – неуверенно отвечаю я.
– Пятница, – поправляет врач, и гнетущее чувство усиливается. Может, в пятницу я должен был где-то быть?
Раздается звонок интеркома. Доктор берет трубку, с минуту разговаривает, потом кладет ее и поворачивается ко мне.
– Рентген можно будет сделать через тридцать минут. – Он начинает рассказывать о commotions cérébrales, сотрясении мозга и кратковременной потере памяти, компьютерной томографии и сканировании мозга, но я из этого практически ничего не понимаю.
– Позвонить кому-нибудь? – спрашивает он. Я чувствую, что надо, но совершенно не могу сообразить кому. Брама нет, сабы нет, да, вероятно, и Яэль уже тоже. Кто у меня еще остался?
Меня настигает волна тошноты, внезапно, словно со спины. И вот моя кровавая майка теперь еще и заблевана. Медсестра быстро схватила лоток, но не успела. Она подает мне полотенце. Врач рассказывает что-то о взаимосвязи сотрясения мозга и тошноты. К глазам подступили слезы. Я так и не научился блевать, чтобы не плакать.
Сестра другим полотенцем вытирает мое лицо.
– Ой, упустила пятнышко, – говорит она, нежно улыбаясь. – Вон, на часах.
На запястье у меня блестящие золотые часы. Не мои. На миг появляется видение, что они на руке у девушки. Мой взгляд поднимается по тонкой руке до сильного плеча, за ним идет лебединая шея. Я готов к тому, что лица не увижу, как во сне. Но нет.
У нее темные волосы. Светлая кожа. Теплый взгляд.
Я снова смотрю на часы. Стекло треснуло, но они еще тикают. Показывают девять. Я начинаю подозревать, что именно я забыл.
Я пытаюсь сесть. Мир превращается в кашу.
Доктор берет меня за плечо и укладывает обратно.
– Вы волнуетесь, потому что у вас помутилось сознание, но это временно. Нам необходимо сделать томограмму, убедиться, что кровоизлияния в мозг нет. А пока мы ждем, можно заняться вашим лицом, у вас тут рваная рана. Сначала нужно сделать местную анестезию.
Сестра намазывает щеку чем-то оранжевым.
– Не волнуйтесь, пятен не останется.
Пятен не останется, просто жжет.
– Мне надо идти, – говорю я, когда швы наложены.
Врач смеется. На миг я вижу белую пыль на белой коже, но она теплее. Белая комната. В щеке пульсирует боль.
– Меня ждут, – не знаю кто, но знаю, что это так.
– Кто вас ждет? – спрашивает доктор.
– Не помню, – честно признаюсь я.
– Господин де Руитер, вам необходимо пройти томографию. После чего мне хотелось бы понаблюдать за вами какое-то время, пока к вам не вернется ясность мыслей. Пока вы не будете знать, кто вас ждет.
Шея. Кожа. Губы. Нежная и сильная рука у меня на сердце. Я прижимаю ладонь к груди, к зеленой рубашке, которую мне дала медсестра, потому что мою окровавленную майку разрезали, чтобы проверить, не сломаны ли ребра. И вот оно, имя, оно буквально здесь.
Пришли санитары, чтобы отвезти меня на другой этаж. Меня погрузили в металлический тоннель, в районе головы что-то сильно грохочет. Может, это благодаря шуму, но в тоннеле туман начинает сгорать. Солнца за ним не оказывается, лишь серое свинцовое небо и складывающаяся мозаика.
– Мне надо идти! Срочно! – ору я из тоннеля.
Тишина. Потом включается интерком.
– Пожалуйста, не двигайтесь, – приказывает мне по-французски бесплотный голос.
Меня отвозят на каталке обратно вниз, оставляют ждать. Уже больше двенадцати.
Я жду. Я вспоминаю больницы, вспоминаю, почему именно их ненавижу.
И жду. Я – адреналин в инертной среде: я – гоночная машина, застрявшая в пробке. Я достаю из кармана монетку и принимаюсь перекатывать ее по костяшкам пальцев, в детстве меня научил этому саба. Фокус срабатывает. Я успокаиваюсь, и еще несколько недостающих кусочков пазла встают на свои места. Мы вместе приехали в Париж. Мы сейчас вместе в Париже. Я буквально чувствую, как ее нежная рука касается моего бока, когда мы едем на велосипеде. Чувствую уже не настолько нежную руку, когда мы крепко прижимаем друг друга к себе. Прошлой ночью. В белой комнате.

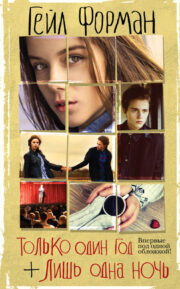
"Только один год. Лишь одна ночь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Только один год. Лишь одна ночь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Только один год. Лишь одна ночь" друзьям в соцсетях.