Дионе грезились серебро и золото. Серебро мерцало в лунном свете, золото полыхало в лучах солнца; потом серебро стало луной, а золото — солнцем. И луна и солнце покоились в ладонях Клеопатры. Царица находилась в своей земной оболочке, и все же была Исидой, богиней-матерью Двух Земель, а тень позади нее была Осирисом, теперь завернутым в погребальную пелену и увитым виноградными лозами со спелыми гроздьями. Гроздья словно светились изнутри «истинно тирским» пурпуром — пурпуром царей.
Диона проснулась, как от толчка; руки ее вцепились в края ложа. Медленно, очень медленно она выплывала из царства снов и не сразу поняла, что не чувствует качки и находится не в каюте царского корабля, а дома, в Александрии. Теплая тяжесть на ее боку была кошкой, так нежданно завладевшей ею в Тарсе. Прислушавшись, она смогла бы различить звуки уснувшего города, едва слышное, легкое, невесомое дыхание Тимолеона, спавшего в соседней комнате, и мягкое ровное посапывание Гебы, прикорнувшей на соломенном тюфячке возле двери.
Сон еще витал в ее покоях, почти зримо мерцая в предутренней тьме. Серебро и золото. Луна и солнце. И боги — Богиня и Бог в самом сердце обеих Египтов.
Диона села на ложе. Кошка проснулась, громко замурлыкала. Диона зябко повела плечами — в покоях было холодно; ноздри чуяли едва уловимый запах древних камней, рисовавший в воображении видения загадочных и безмолвных гробниц. Тряхнув головой, она быстро отогнала предзнаменование, пророчество, предостережение — что бы там ни было, встала и поспешно надела хитон и сандалии. Холод еще не набрал полной силы. Но приближалась зима, и ее ледяное дыхание уже ощущалось в ставшем вдруг неласковым воздухе.
Рассвет еще не брезжил — призрачное, тревожное время, когда власть мертвых еще не рассеялась, а сны становятся странными. Диона зажгла светильник, разогнав темноту, и пошла по дому. Она ничего не искала, не было у нее и какой-либо осознанной цели — ей просто хотелось успокоить себя, убедиться, что все в порядке, все хорошо. Повара были уже на ногах — позевывая, они разводили огонь, собираясь печь хлеб на завтрак. Остальные слуги еще спали. Тимолеон разметался на постели — загорелая кожа отливала прохладной бронзой, иссиня-черные кудри упали на лицо. Диона тихонько накинула на него покрывало и, погладив сына по голове, осторожным и точным движением убрала волосы. Он улыбнулся во сне.
Диона залюбовалась сыном — он дышал безмятежно, весь во власти грез, — и вдруг вспышка памяти осветила ее собственный, уже почти забытый сон; сердце кольнуло, и это был укол ревности. Прошло три месяца с тех пор, как они покинули Антония, уплыв из Тарса. Нет, почти четыре. Воды Нила стали спадать: наводнение пошло на убыль, обнажая черные плодородные земли — дар великой реки, ее древнюю милосердную магию. Скоро, может быть, даже сегодня, появится Антоний и, как ему и подобает по праву, станет первым человеком — не считая, конечно, самой царицы, — который узнает, что она носит в чреве его дитя. Или детей.
Диона виделась с Клеопатрой почти каждый день; прислуживала ей, поклонялась вместе с царицей богине, ела, пила и даже ванны вместе с ней принимала. Но уже гадала, долго ли продлится молчание: месяц, больше? К тому времени достаточно востроглазые смогут разглядеть признаки беременности в округляющемся стане владычицы Двух Земель.
Что ж, это ее дело. Клеопатра не пожелала поделиться важной новостью с той, которую называла своей подругой. Но Диона не обижалась. Сама богиня исправила оплошность судьбы. И Антоний наконец-то приедет — так, по крайней мере, он обещал. А почему бы и нет? Он уже покончил со всем, что держало его в Сирии, и, насколько знала Диона, палец о палец не ударял, чтобы двигаться дальше, в Парфию. Впрочем, он достаточно мудр и дальновиден, чтобы отложить поход на весну. Зима была периодом затишья, порой отдохновения, весна же — временем войн.
Пока Диона размышляла обо всем этом, Тимолеон свернулся калачиком, и большой палец руки очутился у него во рту. Диона поцеловала его в щеку, но он даже не пошевелился.
Ложиться не стоило снова — было уже почти утро, да и спать больше не хотелось. Диона оделась без помощи Гебы, кое-как пригладила и уложила волосы — служанка наверняка изведет ее упреками и переделает все заново, но тогда уже утро будет в полном разгаре. Она вознесла молитвы, положенные в час пробуждающегося дня, и произнесла слова благодарности богине за роскошь и величие ночной грезы. Милость богини словно окутала ее теплой волной покоя.
Как только рассвело, Диона в обществе кошки и сияющей служанки — надлежащим образом выкупанная и одетая, к удовольствию Гебы, — вышла в город. Ей надо было заглянуть в храм и зайти на рынок. К полудню она освободилась, добрела до залива, и ее ушей не миновали слухи, которыми гудел весь город: суда в море, убранные совершенно в духе римлян, и паруса самого большого корабля алеют пурпуром царей, или, как язвили злые языки, римских триумвиров с амбициями, которые, как бы они ни тщились это отрицать, мнили себя царями.
Полдень принадлежал Клеопатре. Царица где-то выискала нового ученого мужа, чей ум собралась испытать, и потому настояла на присутствии жрицы. Диона была не особо сильна и находчива в подобных дискуссиях, но Клеопатре этого и не требовалось — ее ума хватило бы на десятерых. Однако царица нуждалась в умных слушателях, которые, по ее собственному замечанию, не станут аплодировать ей лишь потому, что она — царица.
Диона знала наверняка, что Клеопатра не изменит своих планов только из-за слухов о прибытии Антония. Она не ошиблась. Царский двор был взбудоражен, как потревоженный улей. Приплывет ли он сегодня? Прибудет ли вместе с армией, как любил делать Цезарь, и потрясет воображение народа, подбавив масла в огонь? Вступит ли во дворец торжественным маршем и объявит себя его хозяином? Но царица и бровью не повела. Ученый, юноша с клочковатой бородой и круглыми влажными глазами гончей, не разочаровал Клеопатру — он оказался вполне неглупым, как она предполагала, и вдобавок храбрым — последнее было свойственно далеко не всем иудеям.
— У нас только один бог, — возразил ученый, когда Клеопатра вскользь похвалила его мужество. — Он могуществен и страшен в своей ревности ко всем другим богам. Все прихоти и мощь царей меркнут перед этим. У него рабов другого бога нет.
Клеопатра улыбнулась. Блистая умом, не забывала и о своей прославленной внешности, хотя и не снизошла сегодня до роскоши: греческая простота, никаких украшений — только золото в ушах и на руках, и тонкая сверкающая лента диадемы в уложенных по-египетски косах.
— Что ж, уважаемый, — сказала она. — Похоже, ты сразил меня наповал. Достойная победа. Какой награды ты хочешь?
— Награды? — казалось, он был удивлен. — Мне не нужна награда, владычица. Я говорил с тобой ради удовольствия. Так редко можно встретить женщину, а тем более чужестранку, которая так хорошо разбирается в тонкостях законов.
— Но ведь я же царица, — напомнила Клеопатра. — Я впитала эти тонкости с молоком матери.
— Как и подобает царям, — заметил ученый. — Но у многих из них от такого блюда начинаются колики.
Клеопатра рассмеялась — громко и от души.
— Ох, уважаемый! Да ты просто находка. Ступай к моему управляющему и проси у него все, что захочешь. Мы еще побеседуем — может, отужинаешь со мной вечером?
— Но… но я не могу, — растерялся изумленный юноша. — Сегодня наш святой день, владычица. И завтра… Может, послезавтра?
— Непременно, — кивнула Клеопатра, изрядно позабавленная.
В таком замечательном расположении духа она и встретила долгожданную новость, которую Диона тоже ждала с самого рассвета: Антоний прибыл в Александрию. Примет ли его царица?
Царица его примет. Лицо Клеопатры было спокойным, даже бесстрастным, голос — ровным и твердым. Но Диона успела заметить, как сверкнули ее глаза, прежде чем она притушила их блеск. Клеопатра не сомневалась в Антонии, но есть еще время, судьба, неотвратимый рок и могущество Рима — она с содроганием и безотчетным страхом подумала об этом.
Антоний прибыл без свиты — как обычный гражданин Рима. Вместо доспехов на нем была тога с каймой сенатора[14], и абсолютно ничто во внешности или поведении не возвышало его над любым другим римлянином его сословия. Его не сопровождали легионеры. У него не было оружия. Ему ли не знать, как обставил свой первый въезд в Александрию Цезарь: явился с эскортом целой армии, выставляя на всеобщее обозрение знаки отличия консула — пусть враждебный город знает, что пришел его властелин и покоритель. И город ответил на вызов вооруженной толпой.
Антоний же оказался мудрее: прибыл как гость и друг царицы. Его спутники, шедшие с ним бок о бок, могли быть и доблестными воинами, и почтенными гражданами Рима, но все же городу беспокоиться было не о чем. Александрия приветствовала человека, который щадил и уважал ее гордость.
С высоты, из окна дворца, Диона наблюдала за ним. Антоний не тащил за собой хвоста зевак, похожего на тот, что тянулся по берегу за флотом Клеопатры во время ее путешествия в Тарс, но все же рядом с ним и его спутниками городская толпа была гуще. Он двигался по направлению к дворцу в сопровождении приближенных, одетых в белоснежные свежевыстиранные тоги, и народ все сбегался и сбегался, окружая их плотным кольцом.
Антоний шел, словно на прогулке — не слишком быстро, но и не слишком медленно, словно был путешественником, прибывшим полюбоваться на красоты величайшего из городов. Пару раз он остановился, хотя знал наверняка — или догадывался — Клеопатра ожидает его в зале для аудиенций. Похоже, Антоний пытался преподать царице своеобразный урок, дать понять, что тоже умеет заставить просителя ждать. А может, будучи в тот момент просто Антонием, он искренне восхищался великолепием города.
Это был чудесный денек для них обоих: прохладный, ясный, напоенный свежим, упругим, легкокрылым ветерком, под стать тому, что так плавно гнал его суда в гавань залива. В лучах солнца Фаросский маяк полыхал странно-белым пламенем, и корабельщики, эти странники водных просторов, не нуждаясь в других путеводных звездах, издалека плыли на его свет сквозь ночь и туман. Море сияло чистейшей сочной лазурью, слегка волновавшей ажурно-белыми легкими всплесками пены; город радовал глаз калейдоскопом белого, зеленого, красного и золотого.
Диона с маленькой кошкой-богиней в руках прислонилась к оконному проему. Она не была уверена, что ей хочется разбираться в своих чувствах, признать, что, глядя на горстку римлян в тогах, она в первую очередь смотрела вовсе не на цветущего, рослого и статного мужчину, ведшего их ко дворцу, а искала глазами человека пониже, легче сложенного и более смуглого. Должно быть, он где-то сзади, погруженный в уединение своих мыслей, и это вовсе не было одиночеством; просто Луций Севилий предпочитал собственное общество всем остальным.
Если, конечно, он вообще был среди прибывших. Рим мог позвать его назад. Приданое сестер — о нем он сам говорил, — поместья, клиенты[15], другие обязанности и обязательства могли держать его вдали от Египта. Возможно, он не присоединился к свите по приказу самого Антония или решил остаться на судне, чтобы ускользнуть от докучных игрищ царей.
Точно так же, как ускользнула она сама — правда, на свой манер. Ей надлежало по-прежнему быть в зале, вместе с другими жрицами. Она сбежала под благовидным предлогом естественных потребностей и попросту не вернулась. Впрочем, при желании она еще успела бы спуститься вниз и увидеть, как встретятся Антоний и Клеопатра. Встреча может быть холодной, если того захочет — Клеопатра или сам Антоний задумает наказать царицу за самовольный отъезд из Тарса.
Впрочем, сейчас это не имело значения. Здесь, наверху, у окна, где теплые лучи солнца мягко зрели лицо, ее интересовало лишь одно: прибыл ли с триумвиром в Александрию Луций Севилий, гаруспик?
Как странно, подумала Диона, что до сих пор она ни о чем не догадывалась, не понимала, что с нею происходит. Она даже не слишком скучала по нем. У нее было достаточно дел: семья — нужно заботиться о Тимолеоне и навещать Андрогея, царица, которой следует прислуживать, и богиня, которой надо служить. Странные ощущения возвращались или когда она была в одиночестве, или когда пыталась уснуть: зыбучие островки воспоминаний — слово, взгляд, тень улыбки, изогнувшей уголки губ. Но ни одно из этих ускользавших видений до сегодняшнего дня не вразумило ее, не показало с неожиданной, не оставляющей сомнения ясностью, что у нее на самом деле на сердце.
Она будет очень разочарована, если Луций Севилий не приплыл в Александрию вместе с Антонием.
Луций Севилий, гаруспик, не мог с легкостью допустить, что он разочарован. Не городом, конечно же, нет: Александрия была тем самым ошеломляющим чудом величия и красоты, каким и рисовала ее молва, и вряд ли можно найти слова, чтобы описать роскошь дворца — все краски поблекли бы, — хотя, возможно, такие излишества и грешили против строгого римского вкуса. И уж, безусловно, не царицей, принявшей Антония вовсе не в самой официальной обстановке, которую она обычно предпочитала. Ее придворные были явно пышнее и роскошнее разодеты, чем всегда, но все же не столь помпезно для такого повода; те, при которых Антоний являлся, ранее куда как больше заботились о впечатлении, пуская пыль в глаза. Клеопатра была в греческом платье, почти без претензий, и ее трон удивлял сходством с обычным позолоченным стулом.

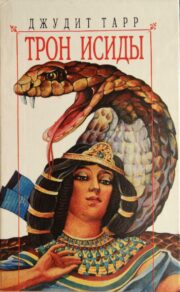
"Трон Исиды" отзывы
Отзывы читателей о книге "Трон Исиды". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Трон Исиды" друзьям в соцсетях.