Сердце Луция слегка забилось и сжалось. Здесь находилась добрая половина Сената Рима. Здесь были консулы — во всей своей славе. Здесь был Антоний, к ногам которого они сложили свои почести и преданность — или по крайней мере страх.
Но здесь — не Рим. Эти стены, эта земля были Афинами — Грецией. Воздух казался странным, чужим, а силы, гнавшие его, — незнакомыми, возможно, даже чужеродными. Их породил не Рим, и Рим не знал их.
Чувство, шевельнувшееся внутри, не имело никакого отношения к преданности и поискам справедливости. Луций ни на минуту не чувствовал себя виноватым из-за того, что, вопреки законам Рима, взял в жены чужестранку, но… за это же он осуждал Антония. Луций понимал силу любви и неизбежности, но Антоний хотел власти над Римом. Луций не стремился к власти — он жаждал только мира и покоя, и брак его никому не угрожал, тем более Вечному Городу.
Он взглянул на Антония и внезапно ощутил нечто похожее на отвращение — хотя, конечно, отвращением это не было. Просто Греция — не Рим. Луций не хотел бы, чтобы все собравшиеся здесь правили им от имени Roma Dea: сенаторы, пьяные или протрезвевшие, консулы, вторившие каждому слову Антония, сам Антоний, находящийся в центре внимания, сделавший себя царем Востока. Антоний постоянно подчеркивал, что он — римлянин, но неизменно выбирал Восток — и Египет.
Конечно, выбор этот был подсознательным. Правильнее сказать: Антоний грезил, будто остался верным своему городу, не предал своих великих идеалов. Но Восток завоевал, покорил его, и он принял правила этой страны, египетские обычаи, египетское платье; стал супругом великой царицы Египта. Даже пир этот был римским лишь в том, что пирующие надели тоги. Почти все разговоры велись на греческом, и все увеселения проходили на эллинский манер.
Луций встал. Никто не поинтересовался, почему он уходит. На пиру, где вино течет рекой, люди всегда приходят и уходят, в соответствии с требованиями организма. Конечно, некоторые сенаторы из присутствующих здесь охотно поговорили бы с ним о том, о сем: о войне с Иллирией, например, или о последних сплетнях с Палатина. Но Луцию не было до них никакого дела, и он уклонился от подобных разговоров.
Весь город праздновал освобождение Антония от союза с Октавианом — союза, почетного больше с виду, как замечали умные люди, чем по сути. Антоний велел раздать народу вино и хлеб. Об остальном им предстояло позаботиться самостоятельно. Веселье рождалось само по себе, веселье ради веселья — и мало кто задумывался о его поводе.
Римляне поймут, даже самые тупые из них…
Луций вдруг остро затосковал по городу, который он без сожаления оставил столько лет назад.
В конце концов Антоний вернется в Рим, должен вернуться — если надеется стать его властелином. Но такая перспектива не успокаивала. Антоний в Риме — это значит конец Рима, по крайней мере, каким он был. Царь Востока не задержится там — он лишь потребует Вечный Город себе, получит соответствующие полномочия и вернется туда, где останется его сердце — на Восток.
Было невыносимо думать об этом.
Луций бродил по улицам чужеземного города, затерявшись в его толпах — поющих, кричащих, шумящих; людской поток носил и таскал его повсюду, пока он не перестал понимать, где находится. Он потерял тогу; вместо нее на плечах оказался паллий, пропахший чесноком и еще чем-то противным. Каким-то чудом у него сохранился кошелек, в котором позвякивали пригоршня драхм[86], пара оболов и амулет Баст, покусанный Мариамной.
Где-то почти под утро, по-видимому, возле Пирея, Луций остановился. Дул ветер, принося зловоние из Афин и свежесть с моря. Женщина пела на незнакомом языке, слащавом и напевном, но с привкусом гнева. Он огляделся по сторонам. Было еще темно, лишь над дверями таверны горел светильник. Не было ни звезд, ни луны — только ночь.
— Это не Рим, — сказал он по-латыни, что само по себе явилось вызовом. — Это — Восток, который покорил Рим.
37
Закатное солнце, наполовину скрытое тучей, бросало длинные лучи на Коринфский залив. Вода казалась золотом на черном — золотом, чуть тронутым кровавым оттенком и оттененным серебром гребней волн, гнавших ветер с запада. В гавани внизу волны омывали крепостные стены. Корабли с острыми мачтами и сложенными парусами, качавшиеся на якорях, противились приходу ночи.
Антоний стоял на стене, плотно завернувшись в плащ — ветер был холодным. Сегодня он пожелал надеть простую скромную одежду и невзрачный плащ и стать еще одним зевакой на городской стене. Стража держалась от негр на почтительном расстоянии. Несколько друзей, сопровождавших его, казались непривычно спокойными и притихшими.
Клеопатра в одеянии, отличавшемся подобием простоты, стояла, держа Антония под руку, и смотрела на воду. Солнце светило прямо в лицо, золотя своими лучами его черты, но царица едва ли замечала это. Свет был ее стихией. Она слегка улыбалась — ей нечего было страшиться. Да, приближалась война. Весь Рим гудел слухами, что Октавиан вступит в открытую борьбу с Антонием ради благополучия Roma Dea. Конечно, так думать не следовало — нельзя было даже допустить подобную мысль. И поэтому Рим придумал некую уловку, из собственного страха и слепоты создал себе врага и назвал его Клеопатрой.
Рим объявил войну Клеопатре — не Антонию, конечно же, нет. Но Клеопатра была Антонием, а Антоний — Клеопатрой. Любое существо, которое могло шевелить мозгами, понимало это.
Но, назначенная на роль заклятого врага Рима, объект всеобщего осуждения и презрения, царица была слишком невозмутима. Слегка прижавшись плечом к своему царственному супругу, сплетя пальцы с его пальцами, как влюбленная девушка, она наслаждалась прогулкой прохладным вечером по городской стене, над морем цвета свежей чистой лазури. Ее голос звучал мягко, с нотками смеха, но слова, которые она говорила, не могла бы произнести ни одна обычная женщина:
— Все отлично, и иначе и быть не может. Восточное море безопасно — из-за цепочки крепостей. Врагу ничего не остается, как только стоять на берегу Италии и поливать нас бранью, грозя кулаком.
— От Керкиры до Киренаики, — задумчиво проговорил Антоний. — Да, в этой части Внутреннего моря мы в безопасности. Наше положение достаточно надежно. Но не стоит обольщаться. Октавиан может оказаться противником посерьезнее, чем злобная зубастая собака — пустолайка, каким он нам кажется. Мне сообщили, что у него мощная армия. И флот.
— Такие же суда, как и у нас? — Клеопатра иронично покачала головой. — Не может быть! Рим могуч своими легионами, но он никогда не чувствовал себя спокойно на море. А эллины в Египте привыкли к морю с незапамятных времен. Египтяне плавали на ладьях по Нилу: иногда даже жили на них, просто ради радости скользить по воде. Ни один римский флот не сравнится с нашим.
— Возможно, ты и права. Но зато у них есть Агриппа. Такого флотоводца я не встречал никогда, а я много повидал, ты сама знаешь. Он лучше твоих флотоводцев, о моя владычица Египта.
— Даже величайшему в мире флотоводцу нужны корабли. Вероятно, нас не назовешь непобедимыми. Но мы сильны — и в этой войне будем победителями.
— Все во власти богов, — сказал Антоний и внезапно, ошеломляюще внезапно, улыбнулся. — Мы так долго ждали, прежде чем решились бросить вызов Октавиану, столкнуться с ним лицом к лицу. И как далеко, по-твоему, мы должны зайти в своих действиях? Может, имеет смыл выйти из укрытия и двинуться на запад — перенести войну в Италию?
— Пусть Октавиан сам придет к нам, — усмехнулась Клеопатра. — Дай ему прогуляться. У нас в тылу — весь Восток и все богатства Египта; нам есть чем поддерживать силы. Пусть он покинет свои владения; оставит за спиной все линии обороны, источники финансовой и продовольственной помощи — все необходимое, чтобы вернуться домой победителем.
Антоний кивнул. Предполагаемые действия они часто обсуждали и раньше — а это уже стало ритуалом, почти колдовством, заклинанием, чтобы наворожить себе победу. Иногда он напоминал Клеопатре, что сильней всего они на море и на Востоке, а Италию лучше оставить на десерт — когда можно будет взять ее голыми руками. Сама по себе Италия для них мало значила; правда, там находился Рим — приз, за который они сражались.
Восточное море станет полем их битвы.
— Так было с самого начала, — проговорил Антоний. — Восток — это ключ. И Александр, и Цезарь понимали это. В сущности, мне тоже так казалось, правда, я думал, что главное — Парфия. Но я ошибался. Главное — Греция, Египет и Азия. Без них Рим не может создать империю. Он нуждается в их богатствах, житницах и народах.
— И кораблях. Власть на море без флота невозможна.
— Я помню, как ты приплыла ко мне со своими судами — словно богиня моря. Я пришел в ярость — ты меня переплюнула. Но — клянусь Юпитером! — ты была сногсшибательна. Кто бы устоял перед тобою?
Клеопатра засмеялась.
— А меня просто трясло от страха. Ты мог бы прогнать меня, оскорбить, принудить к уступкам, каких у меня и в мыслях не было, — к чему угодно; а я всего лишь хотела стать твоей союзницей.
— И все? Большего ты не хотела?
Она улыбнулась, глядя вдаль, через море.
— Может быть.
— Что-то я не помню ничего похожего на «может быть». Ты собиралась заполучить меня целиком — без остатка, если выйдет. — Антоний усмехнулся. — Признаюсь, у меня были точно такие же мысли относительно тебя.
Они одновременно рассмеялись — тепло, спокойно и весело. Такие минуты гармонии случались нечасто — более обычными были суета или размолвки, чаще всего из-за государственных дел. Сегодня же вечером, в ожидании их войны, оба были счастливы. Они смотрели, как садилось солнце, и медлили уходить, когда над головой одна за одной стали загораться звезды, как мерцающие гостьи на небосклоне. Пробирал весенний холодок, но они, поплотнее завернувшись в гиматии, стояли, прижавшись друг к другу, лелея краткое мгновение счастья, призрачного мира — перед неотвратимой войной.
Гонец прибыл при сером тусклом свете утра, мокрый от дождя, начавшего накрапывать ночью. Лицо его посинело от холода — дождь был со снегом.
Он попытался грациозно поклониться у подножия трона царицы и ее триумвира, но пошатнулся и упал лицом вниз. Слова, казалось, послышались из недр земли:
— Мефона, владыка и владычица… Мефона пала.
В толпе полководцев, просителей и зевак из придворных, проснувшихся с утра пораньше, кто-то ахнул. Остальные застыли в гробовом молчании.
Антоний, судя по его «ответу», превратился в камень. Но Клеопатра владела собой.
— Что? Мефона пала? Но это невозможно! Ты думаешь, что нас так легко одурачить? Кто тебе заплатил? Октавиан? Ну-у, он не мог дать много — в его кошельке сидят лишь пауки, все об этом знают, даже любой забулдыга на улице.
Гонец заставил себя подняться на ноги, призвав на помощь все мужество и терпение.
— Владычица, я не лгу! Крепость владыки Антония в Мефоне, которая смотрит стенами на запад, на Италию, взята. Через море приплыл флот, неожиданно напал на нее и захватил. Царь Бокх Мавританский — наш военачальник… погиб. Остальные защитники… гарнизон… они либо убиты, либо захвачены в плен. Некоторые переметнулись на сторону врага.
Антоний молча смотрел вперед, словно слепой в необъятную тьму. Диона видела подобное выражение лица у людей, близких к обмороку, но он сидел на месте и, казалось, даже не дышал.
— Кто командует флотом римлян? — властно спросила Клеопатра; голос ее чуть охрип от потрясения.
— Агриппа, — ответил гонец. — Марк Випсаний Агриппа.
— Эта гадина? — Антоний наконец заговорил, вернее, зарычал подобно льву. Все уставились на него.
— Жалкий змееныш, жаба, издевка над мужским родом! Как же он смог взять мою крепость?
— Наверное, так же, как и тогда, когда позаботился о Сексте Помпее, — заметил Агенобарб, один из сенаторов, все еще сидевший в лагере Антония; еще в прошлом году он был консулом.
Теперь эта должность отдана Октавиану и кому-то еще — Диона не знала кому, она знала лишь то, что Агенобарб питал смертельную ненависть к Клеопатре. Голос его звучал сухо:
— Агриппа довольно ловко избавился от этого пирата. Нам следовало ожидать, что Октавиан использует его против нас.
— А мы и ждали, — парировала Клеопатра. — Но только не того, что он возьмет одну из наших твердынь ценой всего одного сражения. О боги! О чем только думал Бокх? Он предал нас или просто струсил?
— Ни то, ни другие, владычица, — возразил гонец. — Флот обрушился на крепость неожиданно, без предупреждения, никаких особенных приготовлений не было, и мы не возвели дополнительных укреплений — кроме тех, что обычно, на всякий случай. Царь Бокх сам возглавил битву и пал одним из первых.

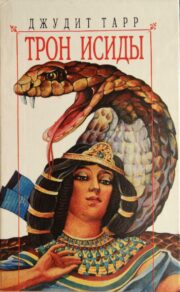
"Трон Исиды" отзывы
Отзывы читателей о книге "Трон Исиды". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Трон Исиды" друзьям в соцсетях.