Тот недоуменно пожал плечами:
– А разве не от тебя приходил в Рогатин человек, сказал, что ты в гареме султана любимая женщина…
– От меня? Нет, мне и в голову не приходило отправить кого-то в Рогатин, как можно?
Она вдруг с ужасом поняла, что с трудом подбирает слова, то и дело пытаясь перейти на турецкий. Даже по-итальянски говорить легче, а свой язык почти забыла. Неудивительно, семь лет не говорила и столько же не слышала.
А вот султан, похоже, понимал. Откуда?
– Повелитель, это мой брат Адам, но я никого не посылала в Рогатин…
– Я выясню, кто послал. Думаю, вам интересно поговорить? Пройдите туда, – он жестом указал на вторую комнату. – Можешь снять перед братом яшмак.
Хуррем смутилась:
– Он не мешает…
Они сидели рядом и не знали, о чем вести беседу, вернее, с чего начать. Сулейман за своим столом перед разложенными картами внимательно вслушивался. Он действительно неплохо понимал славянскую речь, потому что большинство янычар были славянами, и хотя их самих старались отучить от родных языков и поскорей научить турецкому, янычары все равно часто разговаривали на своем.
– Как мама? Отец?
Она очень не хотела этого спрашивать, потому что боялась услышать то, что услышала:
– Мама умерла давно, сразу как тебя украли, не выдержала. А отец недавно. У тебя дети?
Глаза в прорези яшмака улыбнулись:
– Да, уже пятеро. Одна дочь и четверо сыновей.
– Ух ты! Такого даже у меня нет.
– А у тебя сколько?
– Трое… все пацаны.
Она даже не сразу вспомнила это слово.
– Настя… ты счастлива?
Произнесенное родное имя всколыхнуло сильней самого появления в султанских покоях Адама. Настя… она и забыла, что ее зовут так. Нет, не забыла сама по себе, а старалась забыть.
Зачем-то переспросила:
– Счастлива? Да. Люблю, любима, дети…
Оставался еще один вопрос, который Адам боялся задать, а Хуррем боялась услышать:
– Ты… приняла магометанство?
Твердо глянула в глаза:
– Да. Бог един, Адась, а здесь я под защитой Аллаха и Повелителя. Я и мои дети.
Он все понял, понял, что она выбрала другую веру ради детей, кивнул:
– Я передам дома, что ты счастлива.
Засмеялся:
– Богата, довольна…
Она тоже улыбнулась одними глазами, но Адам представлял ямочки на щеках там, под тканью. Настя все та же и совсем иная.
– Тот человек сказал, что тебя можно… выкрасть. Но мы решили иначе: выкупить. Собрали немало денег, я привез…
Она рассмеялась, словно колокольчик зазвенел. Сердце Сулеймана сжалось, в последние месяцы он так редко слышал этот счастливый смех своей Хасеки.
– Нет, Адам, меня нельзя выкупить. Мое место здесь, здесь мои дети, мой любимый мужчина. У меня все хорошо.
Адам понизил голос почти до шепота:
– Но, Настя, я слышал столько страстей о гареме… Там женщин держат взаперти…
– Я же вышла, видишь? Так принято, Адась, у всех свои законы и привычки. А опасность… разве ты знаешь место, где было бы не опасно жить? Я дома жила безопасно, но оказалась невольницей в Кафе.
– Ты выучила турецкий?
– Не только. Я много читаю, пишу, сочиняю стихи, играю на нескольких инструментах, правда, не танцую, потому что… – она тихонько рассмеялась, но объяснять ничего не пришлось, брат понял, тоже рассмеялся.
– Настя, а ты ничуть не подросла, какой была малявкой, такой и осталась.
– Поздно расти.
Они еще беседовали какое-то время, но Сулейман уже не прислушивался, он понял, что любимая женщина не рвется домой, сердцем привязана к нему и детям.
Когда этот славянин явился к Ибрагим-паше и сказал, что приехал выкупить свою сестру из плена, визирь сначала поразился богатырским статям молодого мужчины и порадовался, что у какой-то девушки нашелся родственник, готовый вернуть ее обратно, но когда услышал, что Адам Лисовский из Рогатина и ищет сестру, которую украли семь лет назад, стало не по себе.
Ибрагим ни за что не позволил бы Адаму Лисовскому добраться до султана, но в ту минуту Сулейман появился во дворе сам.
– Кого он ищет?
– Свою сестру, сказали, что она в вашем гареме.
– Что за сестра, только не лги, наверняка сбежавшую невесту ищешь?
Что-то в лице человека показалось Сулейману знакомым. Позже он понял, что именно – зеленые глаза Хуррем.
– Нет, у меня дома жена есть. Сестру ищу. Настей Лисовской зовут. Звали… У вас, говорят, Хасеки названа. Готов платить большой выкуп, все, что с собой есть, отдам.
Глаза Сулеймана насмешливо сверкнули:
– Хасеки, говоришь? И сколько же ты готов за Хасеки выложить?
– Не смейся, паша, я не так богат, как ты, по одежде вижу, не последний ты в Стамбуле, но все же и я не промах.
Сулейман сделал Ибрагиму знак молчать и снова обратился к незнакомцу:
– Звать тебя как?
– Адам Лисовский я из Рогатина, вот ему уже сказал. Сестра моя Настя, ей сейчас двадцать, маленькая такая, живая, веселая… была…
– Откуда знаешь, что здесь?
– Человек в Рогатин приходил, сказал, что она у султана в гареме.
– А если Хасеки здесь много, как узнаешь, лица открывать нельзя?
– По глазам, – уверенно объявил Адам. – У нее глаза наши, зеленые. Ты, мил человек, проводил бы меня к султану, я бы с ним поговорил, может, позволит выкупить? Мать не выдержала, умерла сразу, как Настю украли, а отец, когда умирал, с меня слово взял, что найду и выкуплю.
– Ну, пойдем, – кивнул Сулейман, которого просто забавлял разговор со славянином. В то, что это брат Хуррем, он не поверил.
Но тот, что назвался Адамом Лисовским, вел себя спокойно и с большим достоинством. Было видно, что он поражен богатством одежды собеседников, множеством драгоценностей, внутренним убранством дворца, осторожно разглядывал резьбу, которая была повсюду, присматривался к фонтанам, к коврам, изразцовой плитке, даже тихонько головой качал. Неодобрительно косился только на бесконечных стражей, каких-то неживых, надменных и покорных одновременно.
Они прошли до самых султанских покоев, где перед входом Адама заставили отдать висевший на поясе большой кинжал. Лисовский подчинился, не споря, прекрасно понимая, что в любом другом доме поступили бы так же.
Сулейман жестом пригласил необычного гостя войти, сам присел на один диван, ему так же жестом показал на второй. Кажется, он начал понимать, что именно так привлекло в Хуррем – вот эта доброжелательная независимость. Даже в таких условиях, когда жизнь ничего не стоила и могла оборваться в любую минуту, Лисовские были уверены в себе и независимы.
– Не боишься?
– А чего бояться? Дальше края не уйдешь, дольше смерти не проживешь. Где султан-то?
Никому другому никогда Сулейман не простил бы вот такого обращения, голова наглеца уже валялась бы в пыли, но вот с Лисовским разговаривал так же – спокойно и доброжелательно, выслушивал его грубоватые речи даже с каким-то странным удовольствием.
– Я султан.
Адам Лисовский с трудом сглотнул, недоверчиво глядя на собеседника. Он уже понял, что этот высокий человек важней того, с которым разговаривал первым… А ведь сказали, что тот Великий визирь…
Кто же его знает, кто у этих нехристей важней Великого визиря? Вдруг и правда султан? Так ведь про султана твердили, что к нему и не подойдешь, загодя с ног собьют, а этот вот разговаривает, как человек. Красивый, видный, только бледный, как полотно, видать, нездоров…
Сулейман спокойно и даже с некоторым весельем наблюдал, как рассматривает его брат Хуррем. Он уже понял, кто такой Адам Лисовский, по зеленым глазам понял.
Тот наконец опомнился, опустил голову, развел руками:
– Ты уж меня прости, непривычные мы с султанами разговаривать…
Сзади от двери рассмеялся, закрывая за собой ее снаружи, Великий визирь, Сулейман усмехнулся тоже:
– Не умеешь, ты прав. А если Хасеки не захочет, чтобы ее домой возвращали?
– А ты ее спроси. – Адам вздохнул. – Может, и не захочет… Только я должен попробовать.
– Молодец, что сестру нашел. Сейчас приведут Хасеки, спросим. Знаешь, что это имя означает? В гареме ее Хуррем зовут – Дарящей радость, смеющейся. А Хасеки Султан – это любимая женщина султана, то есть моя. Она одна, и я ее с тобой не отпущу.
Адам Лисовский сник, вздохнул:
– Повидать-то хоть можно?
– Сейчас придет. Не хочешь у меня на службе остаться?
– Я православный.
– У меня всякие служат, я менять веру не неволю. Хотя большинство принимает ислам. Ибрагим-паша тоже христианином был.
– Нет, я домой… Вот только повидаюсь с сестрой и домой. Там жена, дети… Там все свое.
– Как хочешь. А не боишься, что не отпущу, в тюрьму брошу? Или казнить прикажу?
– Сказал же: дольше смерти не проживешь, коли доля моя у тебя умереть, так для того сюда и шел. А нет, так никакие враги не осилят.
В двери постучали. Султан откликнулся:
– Войдите.
Вошел, как-то странно перебирая ножками, рослый черный человек, поклонился, произнес как-то странно, словно вопросительно растягивая слова:
– Повелитель… Хасеки Султан пришла…
– Пусть войдет, а сам иди, будешь нужен – позову.
Человек, пятясь задом, исчез за дверью, а в нее вошла закутанная в сто одежек или просто тканей женщина. Султан встал, сообразил подняться и Адам Лисовский, не так уж он был груб и невоспитан, просто терялся в богатых комнатах дворца.
Адам Лисовский прожил в Стамбуле еще два дня, Сулейман приказал, чтобы никто не знал, что это за человек, но и Хуррем для бесед тоже не приглашал. Обратно брат Насти возвращался нагруженным подарками сверх меры. Пришлось даже выделить охрану для сопровождения.
В беседе с Ибрагимом Сулейман смеялся:
– Я за Хасеки выкуп заплатил семье, теперь она моя по праву.
А Хуррем сказал:
– Если бы попыталась сбежать – вернул, если бы попросила отпустить – отпустил.
Хуррем вскинула на него глаза, полные ужаса:
– Отпустил?!
– Как удержать женщину, которая прочь рвется?
А у Хуррем в голове билось: не нужна!
– Ты брату сказала, что счастлива, чтобы успокоился?
– Правду сказала.
– Зачем же отправляла к нему человека с просьбой помочь сбежать?
– Не было такого. Мне бы и в голову не пришло.
Он смотрел в зеленые глаза и верил. Нет, не хотела бежать, не просила о помощи. Оставалось понять почему. А еще – кто отправил посланника в Рогатин.
Хуррем помотала головой:
– У меня в гареме врагов много…
– А если бы брат не к Ибрагим-паше пришел, не ко мне, а прямо тебе сумел весточку передать?
– Не побежала бы. Да и не поверила.
– Второе честней.
Снова качала головой:
– Нет, не стала бы бежать. Мой дом здесь. У человека дом там, где дом его детей.
– Только дети держат?
Хуррем вдруг лукаво сверкнула зелеными глазами:
– Еще один поэт, который стихи о любви красивые слагает…
Сулейман притворно сурово сдвинул брови:
– Кто таков, кто посмел?! Узнаю – велю казнить!
– Пощади его, о Великий султан, он очень хороший… Я его люблю…
– Любишь? Тогда пощажу. Пусть слагает свои стихи дальше.
Они весело смеялись, смех Хуррем, подобный звуку колокольчика, разносился по султанским покоям.
Кизляр-ага ворчал: эта Хуррем совсем с ума Повелителя свела, раньше все в его спальню водил, теперь до покоев вне гарема добралась. С иноземцами встречается и даже беседы ведет, конечно, в присутствии султана, но где это видано, чтобы женщина с иноземцами сама, без драгомана, разговаривала? В гареме разные невольницы, многие языки знали, но свой быстро забывали, стоило научиться турецкому.
Они свой забывали, а эта чужие зачем-то учит! Зачем женщине итальянский? Разве она будет драгоманом? Кизляр-ага вдруг хихикнул от пришедшей в голову мысли: если Повелителю Хуррем надоест и тот негодницу выгонит, женщина будет зарабатывать на жизнь как драгоман.
Но пока Повелитель выгонять Хасеки явно не собирался, напротив, все чаще она проводила время у султана не в спальне, а в рабочей комнате вне гарема. Эти покои, доступные только валиде, да и то не всегда, были запретными для остальных наложниц, туда и шех-заде Мустафа не так часто ходил. Пожалуй, только Ибрагим-паша и вот эта нахалка чувствовали себя в султанских покоях свободно.
Недалеко то время, когда она и ночевать будет не в спальне Повелителя в гареме, а вот здесь, со вздохом размышлял кизляр-ага. А ему приходится часами простаивать у двери, точно обычному евнуху.

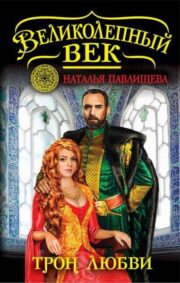
"Трон любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Трон любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Трон любви" друзьям в соцсетях.