Я поворачиваюсь к окну, подхожу к нему и распахиваю настежь.
– Ваше Величество! – Уильям жестом показывает на распахнутые клетки и попугая, сидевшего на жердочке. – Осторожнее…
Я протягиваю руку с канарейкой в окно, чтобы та увидела небо.
– Пусть летят, Уильям. Пусть они все улетают. Так будет лучше. Я не знаю, сколько еще времени я смогу заботиться о них.
Я одеваюсь в полной тишине; дамы передают мне детали туалета без единого слова в давно и хорошо отрепетированном порядке. Я не знаю, как добраться до Анны Эскью, запертой в каменных стенах Тауэра. Это тюрьма для врагов, которых не ждет освобождение в течение долгих лет, для самых страшных предателей и злодеев, которым король не желает предоставлять ни малейшего шанса на бегство. Заключенный попадал туда через водяные ворота, плавучий затвор, втайне от людей города, которые могут восстать, чтобы защитить его, и это становилось началом его другого водного путешествия – по реке Лета, по направлению к забвению.
Но больше всего меня пугает то, что я не знаю, почему Анну перевели из Ньюгейта в Тауэр. Ее обвинили в ереси, допросили в Тайном совете – почему тогда не оставили в Ньюгейте до суда или до получения помилования? Зачем ее перевели в Тауэр? В чем смысл? И кто отдал этот приказ?
Ко мне подходит Нэн и кланяется, пока Екатерина застегивает на мне украшения. Бесценные сапфиры кажутся мне холодными и очень тяжелыми, и я вздрагиваю от их прикосновения к коже.
– В чем дело, Нэн?
– Я должна поговорить с тобой о Бет, – говорит она, называя имя одной из моих горничных.
– Что там с нею?
– Мне написала ее мать, попросила отправить ее домой, – говорит она. – Я взяла на себя смелость сказать ей, что Бет может ехать.
– Она что, больна? – спрашиваю я.
Нэн качает головой. Ее губы поджаты, словно она так сердита, что не может больше произнести ни слова.
– Тогда в чем дело?
В комнате повисает смущенное молчание.
– Ее отец служит у епископа Гардинера, – отвечает Екатерина Брэндон.
Я не сразу понимаю ее.
– Ты думаешь, что это епископ рекомендовал родителям Бет забрать ее у меня?
Нэн кивает. Екатерина кланяется и выходит из комнаты, чтобы подождать меня снаружи.
– Он никогда в этом не признается, – говорит сестра. – Поэтому предъявлять ему в этом претензии не имеет смысла.
– Но зачем Бет уходить от меня? Даже если ей рекомендовали это сделать?
– Я уже видела такое, – говорит Нэн. – Так было, когда Китти Говард предъявили обвинение. Молодые служанки, те, которым не нужно было давать показаний, поголовно нашли причины для возвращения домой. Тогда свита королевы сократилась, как рубаха после стирки. То же самое произошло, когда король ополчился против королевы Анны. Все Болейны исчезли из двора в течение одного вечера.
– Но я не Китти Говард! – кричу я от внезапного приступа ярости. – Я – шестая жена, шестая отвергнутая, а не пятая, признанная виновной! Все мои проступки – это чтение и прослушивание проповедей! А она была прелюбодейкой, или двоемужницей, или попросту шлюхой! Любая мать постарается забрать свою дочь из услужения такой женщине! Но про меня все говорят, что моя свита – самая добродетельная в христианском мире! Зачем им забирать от меня своих дочерей?
– Служанки Китти исчезли за день до ее ареста, – ровно произносит Нэн, не реагируя на мой гнев. – И не потому, что она была дамой легкого поведения, а потому, что была обречена. Никто не хочет оставаться в свите обреченной королевы.
– Обреченной королевы? – переспрашиваю я, но на самом деле я хорошо расслышала эти слова. Как падающая звезда, обреченная на краткий полет. – Обреченная королева…
– Уильям сказал, что ты открыла окно и выпустила птиц, – замечает сестра.
– Да.
– Я пойду закрою окно и позову тех птиц, которые захотят вернуться. Нет никакой надобности показывать всем свой страх.
– Я не боюсь! – Это ложь.
– Напрасно.
Идя во главе свиты к столу, я придирчиво осматриваю ее, ожидая, что она начнет сокращаться прямо у меня на глазах. Однако я не замечаю, чтобы людей стало меньше, все на своих местах. Сторонники реформ еще не ощущают угрозы своей безопасности. Покидают меня только те, кто служит мне, те, кто ближе всех остальных.
Когда я прохожу мимо придворных, они кланяются мне со всем уважением. Для короля тоже поставили приборы, а над его местом навесили балдахин. Слуги кланяются и ставят перед его пустым местом за столом самые лучшие блюда, повинуясь установленному ритуалу. Сегодня король снова ужинает в своих комнатах, в окружении своих новых фаворитов: епископа Стефана Гардинера, лорда-канцлера Томаса Ризли, сэра Ричарда Рича, сэра Энтони Денни, Уильяма Пэджета. Когда ужин подходит к концу, я могу покинуть парадный зал, чтобы присоединиться к королю. Но до тех пор главный стол не должен пустовать. Придворным необходим монарх, а принцессам – родители.
Когда мой взгляд скользит вдоль столов, я замечаю, что во главе стола Сеймуров накрыто пока пустующее место.
– Вы ожидаете возвращения Эдварда? – Я смотрю на Анну.
– Я молю Бога о том, чтобы он оказался здесь, – прямо говорит она. – Но мы его не ждем. Он не посмеет оставить Булонь, иначе она падет в тот же час. – Отслеживает мой взгляд. – Это место приготовлено для Томаса.
– Да?
– Он приехал, чтобы встретиться с королем. Они не могут поднять «Мэри Роуз». Они пробуют откачать из нее воду, пока она лежит на месте.
– Правда?
В зал входит Томас, кланяется пустому трону, потом мне, потом принцессам. Он подмигивает Елизавете и занимает свое место за столом. Я отправляю ему блюда с угощениями, герцогу Норфолку и виконту Лайл, не руководствуясь симпатиями. Даже не рассматривая его напрямую, я замечаю, что Томас загорел, как крестьянин, а на висках его сложились тени от улыбок под солнцем. Он хорошо выглядит. На нем надет новый дублет из темно-красного бархата, моего любимого цвета. Из кухни продолжают поступать дюжины новых блюд, и горнисты звуками объявляют каждую новую смену. Я беру по крохотному кусочку от всего, что мне предлагают, и пытаюсь прикинуть, который сейчас час. Интересно, подойдет ли он ко мне после ужина?
Ужин тянется бесконечно долго, но наконец придворные начинают подниматься из-за стола. Мужчины собираются группками, кто-то подходит к дамам, кто-то рассаживается за карточные столики, а кто-то, заслышав музыку, выходит танцевать. Сегодня вечером у нас не было назначено особенных развлечений, поэтому я спускаюсь с помоста и медленно направляюсь к комнатам короля, останавливаясь поговорить с придворными по дороге.
Возле меня с поклоном появляется Томас.
– Добрый вечер, Ваше Величество.
– Добрый вечер, сэр Томас. Жена вашего брата сказала, что вы уже виделись с королем и говорили о судьбе «Мэри Роуз».
Он кивает.
– Я должен был рассказать Его Величеству об очередной попытке поднять ее на поверхность, которую мы предприняли. Мы повторим ее снова, только на этот раз соберем больше кораблей и большее количество канатов. Но сначала я пошлю ныряльщиков герметизировать подпалубные помещения и откачать из них воду. Мне кажется, это можно сделать.
– Надеюсь. Утрата этого флагмана стала настоящей трагедией.
– Ты собираешься к королю? – спрашивает Томас уже очень тихо.
– Да, как я обычно делаю каждый вечер.
– Он кажется крайне недовольным.
– Я знаю.
– Я сказал ему о том, что раз уж мой брак с Мэри Говард невозможен, я по-прежнему ищу себе жену.
Я старательно избегаю смотреть на него. Томас предлагает мне руку, и я касаюсь ее пальцами. Я ощущаю силу мускулов под одеждой, но не сжимаю пальцев, чтобы прикоснуться к ним. Мы идем рядом в одинаковом ритме. Если б я сделала крохотный шаг в его сторону, то могла бы щекой коснуться его плеча. Но этого шага я делать не буду.
– Ты сказал о своих надеждах на руку Елизаветы?
– Нет, он был не настроен на подобные разговоры.
Я киваю.
– Знаешь, в отказе Мэри Говард было что-то, чего я не понимаю до сих пор, – тихо произносит Томас. – Все Норфолки дали согласие на этот брак: старший сын Генриха Говарда и сам старый герцог. Загвоздка была именно в Мэри.
– Не могу себе представить, чтобы ее отец позволил ей подобные капризы.
– Да уж… но тем не менее. Должно быть, ей пришлось драться не на жизнь, а на смерть, чтобы воспротивиться и отцу, и брату одновременно. Ей пришлось бросить им публичный вызов, выказать публичное неповиновение. Мне это совершенно не понятно. Я знаю, что я не неприятен ей и что наш брак стал бы хорошей партией. Должно быть, все дело в условиях брака, которые оказались для нее абсолютно неприемлемыми.
– Насколько неприемлемыми?
– Невыносимыми. Невообразимыми. Непростительными.
– Но что бы это могло быть? Могла она узнать нечто, что отвратило бы ее от тебя?
На его лице блеснула хитрая ухмылка.
– Я не делал ничего настолько серьезного, Ваше Величество.
– Но тем не менее вы уверены, что отказ исходил именно от нее? Это был именно ее решительный отказ?
– Я надеялся, что вы будете знать об этом чуть больше.
Я отрицательно качаю головой.
– Я и так окружена тайнами и волнениями, – говорю я. – Проповедники, бывавшие у меня, арестованы, книги, которые король дал мне для чтения, объявлены вне закона. Сейчас даже чтение королевской Библии – преступление. А теперь еще и моя добрая знакомая Анна Эскью переведена из тюрьмы Ньюгейт в Тауэр. Фрейлины из моей свиты пропадают прямо из своих комнат. – Я улыбаюсь. – А этим утром я выпустила своих птиц.
Томас окидывает взглядом зал и улыбается кому-то из знакомых, словно он чем-то обрадован.
– Это очень плохо.
– Я знаю.
– Разве ты не можешь поговорить с королем? Одно лишь его слово, – и к тебе вернется все твое положение.
– Я поговорю с ним, если он будет в настроении.
– Твоя безопасность полностью зависит от его любви к тебе. Он же все еще любит тебя?
Я чуть заметно качаю головой в знак отрицания.
– Не знаю, Томас, любил ли он вообще кого-нибудь. И способен ли вообще любить…
Мы с Томасом пересекаем приемную короля, наполненную просителями, юристами, докторами и прихлебателями, ревностно следящими за нами, оценивая нашу уверенность по каждому нашему движению. Томас останавливается перед дверями в королевские покои.
– Мне невыносимо тяжело оставлять тебя в таком положении, – потерянно говорит он.
За нами наблюдают сотни глаз, и под их взглядами я холодно улыбаюсь Томасу и протягиваю ему руку. Он кланяется, касается моей руки теплыми губами и тихо произносит:
– Ты удивительно умная женщина. Ты прочитала и поняла больше книг, чем большинство мужчин здесь. У тебя любящее сердце, и ты веришь в Господа, и молишься ему куда более истово и искренне, чем они когда-либо смогут. Ты обязательно сможешь объясниться с королем. Ты – самая красивая женщина при дворе и уж точно самая желанная. Ты сумеешь вернуть любовь короля.
Томас официально кланяется, а я поворачиваюсь и вхожу в комнаты короля.
Там как раз беседуют о монастырях и часовнях, где заказывали отпевание. К моему огромному изумлению, они обсуждают, сколько подобных религиозных заведений, закрытых такой огромной ценой, могут быть открыты и отремонтированы. Епископ Гардинер считает, что нам нужны монастыри и обители в каждом городе, чтобы обеспечить мир и покой среди подданных, духовную пищу и поддержку для каждого из нуждающихся. Рынки и торговые площади, основывавшие свою торговлю на страхе и предрассудках и которые были закрыты королем, теперь снова будут открыты, словно в Англии никогда не было реформации. И они вернутся к своему прежнему делу: торговле ложью в погоне за обогащением.
Когда я вхожу, епископ Гардинер как раз предлагает восстановить некоторые из святилищ и паломнических маршрутов. Хитрец сразу оговаривает, что они сразу будут платить налоги короне, минуя Церковь, словно это каким-то образом изменит их порочную сущность. Он утверждает, что за труд во имя Господне можно и должно получать оплату. Я тихо сижу возле Генриха, сложив руки на коленях, и слушаю, как этот нехороший человек предлагает восстановить всю систему, построенную на предрассудках и язычестве и созданную для того, чтобы богатые могли продолжать обкрадывать бедных. Но я ничего говорить не буду. Только когда разговор касается литургии Кранмера, я позволяю себе встать на защиту реформированного перевода. Король поручил Томасу Кранмеру сделать перевод с латыни на английский, и сам Генрих приложил к нему руку, и я сидела возле него и читала вслух, и перечитывала заново английскую версию литургии, сравнивая ее с оригиналом на латыни, проверяя ошибки. Сначала я тихо высказываю предположение, что перевод Кранмера достоин похвалы и им следует пользоваться в каждой церкви Англии, но потом в азарте начинаю спорить и утверждать, что он не просто достоин, но и красив, и даже свят. Король улыбается и кивает, словно соглашается со мной, и это придает мне смелости. Я говорю о том, что людям должна быть дарована свобода в церквях обращаться к Господу напрямую, а не через посредничество священников, тем более когда это посредничество осуществляется на непонятном для людей языке. Что как король – отец своему народу, так и Господь – отец королю, что связь между королем и его народом та же, что соединяет людей и Бога, и что общение между обоими и народом должно быть так же открыто и понятно. Иначе как королю показывать свое величие, а Богу – его любовь?

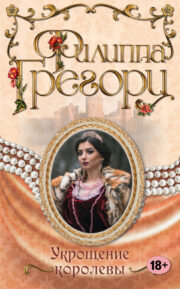
"Укрощение королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Укрощение королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Укрощение королевы" друзьям в соцсетях.