Страшные видения из сна снова предстают у меня перед глазами. Женщина с вывернутыми наружу ногами, впадины на тех местах, где должны были быть ее плечи…
– Не надо, не говори больше.
– Боюсь, это правда. Мне кажется, они показали ей дыбу, а потом, когда она опять не сдалась, ее храбрость привела их в ярость, и они не смогли совладать с собою. Она не сдавалась, и они шли все дальше и дальше – и не сумели остановиться. Констебль в Тауэре пришел от этого в такое отвращение и ужас, что вышел оттуда и доложил о происходящем королю. Он сказал, что они сбросили куртки в пыточной и пытали ее собственноручно. Оттолкнули палача и сами встали – один в ногах, другой в изголовье – и вращали валы. Представляешь, они не дали палачу делать это, им было мало просто смотреть – они захотели мучить ее собственноручно. Когда король узнал об этом от констебля, он велел им прекратить.
– Он ее помиловал? Ее отпустили?
– Нет, он не стал этого делать, – горько отвечает Нэн. – Он просто запретил им пытать ее. Но, Кейт, к тому времени, когда констебль вернулся в Тауэр, они пытали ее всю ночь! Все это время, пока констебль добирался до короля, они ее истязали. И остановились они, только когда он вернулся с распоряжением короля.
Я не могу поверить своим ушам.
– Это длилось часами?
– Да. Она никогда больше не сможет ходить. Все кости в ее руках и ногах переломаны, ее плечи, колени и бедра вырваны с места. Они разорвали и растянули ее позвоночник.
И снова я вижу образ из сна: женщина с выдернутыми из суставов кистями рук, с рассоединенными локтями, впадинами там, где должны быть плечи, и странной позой, в которой она пытается удержать вывернутую шею… У меня опять перехватывает дыхание.
– Но сейчас они ее освободили?
– Нет. Просто сняли с дыбы и бросили на пол.
– Она все еще там? В Тауэре? С вырванными ногами и руками?
Нэн кивает, глядя прямо перед собой ничего не видящим взглядом.
– Кто это был? – рычу я. – Назови!
– Я точно не знаю. Один из них был Ричард Рич. Второй – Ризли.
– Лорд-канцлер подверг женщину пытке через дыбу? В Тауэре? Собственными руками?
Подняв взгляд на меня, сестра просто кивает.
– Он что, сошел с ума? Они все там сошли с ума?
– Должно быть, так.
– Женщин никогда не подвергали пыткам! Женщин из достойных семей!
– Они были полны решимости узнать то, что им было нужно.
– О ее вероисповедании?
– Нет, об этом она говорит вполне охотно. О том, во что она верит, они узнали достаточно. Для того чтобы десять раз признать ее виновной. Господи, спаси и сохрани, им нужно было знать только о тебе. Они пытали ее на дыбе, чтобы она указала на тебя.
Мы обе замолкаем, а потом мне становится нестерпимо стыдно. Но приходится задать следующий вопрос.
– Ты знаешь, что она им сказала? Она назвала нас еретиками? Она называла меня? Она говорила о моих книгах? Должно быть, да, потому что такого никто не вынесет. Она должна была это сказать.
Улыбка Нэн противоречит ее красным от слез глазам. Мне знакома эта улыбка, потому что она говорит о смелости, проверенной тяжкими испытаниями, и которую проявляют женщины, прошедшие сквозь жесточайшие времена, но так и не познав предательства.
– Нет, она этого не говорила. Видишь: нас же освободили… Мы были там, когда вернулся констебль и рассказал о том, что они делали. Его отвели к королю, но дверь между приемной и кабинетом Тайного совета была открыта, и мы слышали, как орал на них король. Потом они вышли оттуда и снова допрашивали нас. Должно быть, они надеялись, что она предаст нас или мы предадим ее, или что хотя бы одна из нас назовет вас. Но она молчала, и мы не сказали им ничего, и тогда нас отпустили. Они растерзали ее, Господи, помилуй! Разорвали на части, как курицу на рынке, но она так и не назвала вашего имени.
У меня из груди вырывается всхлип, потом я снова затихаю. Наконец говорю:
– Мы должны отправить ей доктора. И еду, и питье, и то, чем ей можно облегчить страдания. И мы обязаны освободить ее оттуда.
– Мы не можем этого сделать, – говорит Нэн после долгого тяжелого вздоха. – Я уже думала об этом. Но она прошла через весь этот ужас, чтобы отринуть связь с нами. Мы не можем подставлять себя под удар. Мы обязаны оставить ее.
– Но она же терпит страшные мучения!
– Так пусть эта жертва будет не напрасной.
В дверь раздается тихий стук. Екатерина Брэндон бросает раздраженное восклицание и открывает ее. До нас доносится ее голос:
– Да, в чем дело? – Затем она неохотно приоткрывает ее шире. – Это доктор Уэнди, – говорит она. – Он настаивает.
В дверном проеме появляется плотный силуэт доктора.
– Что такое? – спрашиваю я. – Король заболел?
Доктор ждет, пока Екатерина закроет за ним дверь, затем склоняется над моей рукой.
– Я должен поговорить с вами лично, – заявляет он.
– Доктор Уэнди, сейчас не время. Я очень расстроена…
– Это важно.
Я киваю Екатерине и Нэн, чтобы те отошли в сторонку.
– Говорите.
Доктор достает из кармана жакета бумагу.
– Дела обстоят еще хуже, чем вы думаете, – говорит он. – Даже хуже, чем думают эти дамы. Король сказал мне об этом только сейчас. Мне очень жаль, и очень жаль, что мне придется вам об этом сказать. Он подписал ордер на ваш арест. Вот его копия.
Теперь, когда это произошло, когда случилось худшее из возможного, я сохраняю полное спокойствие. Я не кричу и не плачу:
– Король подписал ордер на мой арест?
– К сожалению, это так, – официально говорит Уэнди.
Я протягиваю руку, и он вкладывает в нее бумагу. Мы двигаемся очень медленно, словно во сне. Я думаю об Анне Эскью, привязанной к дыбе, об Анне Болейн, снимающей свое жемчужное ожерелье, чтобы отдать его французскому мечнику, о Китти Говард, просящей стражу принести ей деревянный чурбак в камеру, дабы она могла потренироваться укладывать на него голову. Я думаю, что мне тоже придется найти в себе силы умереть с достоинством, и я не уверена в том, что у меня это получится. Мне кажется, что я слишком влюблена в жизнь, слишком молода, чтобы умереть. Я слишком хочу жить, слишком хочу любить Томаса Сеймура, слишком верю в завтрашний день…
Негнущимися пальцами я ощупываю бумагу, разворачиваю ее и вижу корявую подпись Генриха, которую видела уже сотни раз. Никаких сомнений нет, я вижу росчерк моего мужа, а над ним стоит надпись, сделанная рукой служки: ордер на арест по обвинению в ереси. Это правда, и это случилось наконец. Мой собственный муж отдал приказ вести против меня расследование по обвинению в ереси, и мой муж подписал его.
Ужас от происходящего настигает меня. Он не хочет отправить меня назад, в прежнюю жизнь, чтобы я закончила свои годы во вдовьей неустроенности, хотя он мог это сделать. Или же он мог просто изгнать меня из двора, и мне пришлось бы подчиниться. Он мог обойтись со мною, как с Анной Клевской, и велеть мне уехать и жить в другом месте, и я бы послушалась. Он мог сделать все, что ему было угодно, потому что он – глава Церкви и может сам решать, какой брак считать действительным, а какой расторгнуть. Он аннулировал брак с Екатериной Арагонской, хоть она и была принцессой Испании и сам папа римский запретил ему это делать.
Но король желает не просто изгнать с глаз долой и прочь из дворцов, чтобы я не просто вернула все украшения и сдала назад в королевский гардероб все платья, оставить его детей и быть ими забытой. Ему недостаточно просто лишить меня регентства и положения. Он хочет моей смерти, и за этим он обвиняет меня в преступлении, кара за которое – смерть. Генрих, казнивший двух своих жен и спокойно дождавшийся известия о смерти двух других, теперь намерен лишить жизни и меня.
Я не понимаю этого, зачем, почему он это делает? Ведь он мог отправить меня в изгнание, если возненавидел меня, после того как так сильно любил. Но он не хочет этого. Ему нужна моя смерть.
Я поворачиваюсь к Нэн, которая с еще более бледным лицом стоит с Екатериной у дверей.
– Видишь? – говорю я в потрясении. – Нэн, смотри, что он сделал. Смотри, что он хочет сделать со мною. – И я протягиваю ей бумагу.
Она берет бумагу и быстро пробегает ее глазами, пытается что-то сказать, но ее рот открывается и закрывается без единого звука. Екатерина берет из ее обессилевших рук бумагу, молча читает ее, потом поднимает взгляд на меня.
– Это работа Гардинера, – говорит она спустя пару мгновений.
Доктор Уэнди кивает.
– Да, он называл вас предательницей и еретичкой. И убеждает короля в том, что вы – змея, которую он пригрел на своей груди.
– Так, значит, мало того, что я – Ева, мать всех грехов, так теперь он сделал меня еще и змеем? – Я прихожу в ярость.
Доктор Уэнди снова кивает:
– Но у него нет доказательств!
– А они им не нужны, – доктор констатирует очевидное. – Епископ Гардинер говорит, что та вера, о которой вы говорите, отрицает власть лордов и королей, потому что утверждает, что все люди равны. И что она есть не что иное, как подстрекательство к мятежу.
– Я ничем не заслужила смерти, – говорю я и слышу, что мой голос дрожит.
– Как и все остальные, – напоминает Екатерина.
– Епископ говорит, что всякий, исповедующий ваши взгляды, заслуживает смерти. Это буквально его слова.
– Когда они будут здесь? – перебивает его Нэн.
– Как это «будут здесь»? – Я не понимаю, о чем она говорит.
– Когда они придут ее арестовывать? – повторяет она свой вопрос к доктору. – Каков план? Когда они за ней придут? И куда ее отправят?
Ее практичность не изменяет ей, и она уже отправилась к моему бюро, вытащила мой кошель и стала искать, куда это упаковать. У нее так дрожат руки, что она не сразу справляется с ключом в замочной скважине. Я кладу руки ей на плечи, будто мешая ей собирать меня в тюрьму. Я не дам свершиться аресту.
– Лорд-канцлер получил приказ арестовать королеву. Он должен будет сопроводить ее в Тауэр, но я не знаю, когда это произойдет. И я не знаю, на какой день назначен суд.
Когда я слышу про Тауэр, подо мною подкашиваются ноги, и Нэн приходится усадить меня на кресло. Я наклоняюсь вперед и сижу так, пока у меня не перестает кружиться голова. Екатерина протягивает мне бокал с элем, который на вкус кажется мне прокисшим. Я думаю о Томасе Ризли, который всю ночь собственноручно пытал Анну на дыбе и который придет сюда, чтобы отвести меня в Тауэр, на то же самое место.
– Я должна вас покинуть, – говорит Екатерина. – У меня осталось два сына, у которых нет отца. Я должна уйти.
– Нет! Не уходи!
– Я должна это сделать.
Нэн молча кивает в сторону двери, показывая ей, что она может идти. Екатерина опускается в глубокий поклон.
– Да благословит вас Господь, – говорит она. – Прощайте.
Когда за нею закрывается дверь, я понимаю, что она только что попрощалась с обреченной на смерть.
– Как вы об этом узнали? – спрашивает Нэн доктора.
– Я был там, когда они принимали это решение, составлял ему снотворное в дальнем углу комнаты. А когда менял повязку на его ноге, король сам сказал, что это не жизнь для мужчины его возраста, когда ему читает нотации собственная молодая жена.
Я поднимаю голову:
– Он так сказал?
Доктор кивает.
– Только это? Больше ничего? Больше он ни в чем меня не обвинял?
– Только это. Но разве этого мало? А потом на полу в комнате между его покоями и кабинетом Тайного совета я нашел ордер. Он просто лежал там у двери, и, как только я его увидел, отправился к вам.
– Вы нашли этот ордер? – с подозрением спрашивает Нэн.
– Да… – Его голос срывается. – О, похоже, его там оставили специально для меня.
– Ордер на арест королевы не роняют случайно на пол, – говорит Нэн. – Кто-то хотел нас предупредить. – Сестра начинает метаться по комнате, стараясь все обдумать. – Иди-ка ты к королю, – говорит она мне. – Иди к Генриху сейчас, падай на колени, ползай перед ним, как кающаяся грешница, моли прощения за свои ошибки. Проси прощения за то, что позволила себе говорить.
– Это не сработает, – возражает доктор. – Он велел запереть двери. Он не примет ее.
– Это ее единственный шанс. Если ей удастся попасть к нему и показать себя смиренной… более смиренной, чем мир вообще видел женщину. Кейт, тебе придется ползать перед ним, ставить его обувь себе на пальцы…
– Я буду ползать, – обещаю я.
– Он уже сказал, что не станет ее принимать, – неловко заметил доктор. – Стражники уже получили приказ не впускать королеву.
– Он так же запирался от Китти Говард, – вспомнила Нэн. – И от королевы Анны.
Они замолчали. Я смотрю то на одного, то на другого и никак не могу придумать, как мне быть дальше. В голове бьется только одна мысль: за мной придут, чтобы отвести меня в Тауэр, и мы с Анной Эскью станем пленницами одной холодной тюрьмы. И из моего окна по ночам будут слышны ее стоны и крики боли. Мы будем ожидать смертельного приговора в соседних камерах, и я смогу услышать, как ее поведут на костер, а она услышит, как мне строят виселицу на холме.

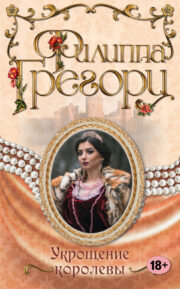
"Укрощение королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Укрощение королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Укрощение королевы" друзьям в соцсетях.