— Ну… а что если допросить этого цыгана? – еще не теряла надежды я. - Может, он расскажет что-то?
— Его и так ищут с самого утра, но пока найти не могут, - устало развел руками Кошкин.
Григория нашли вечером того же дня – в погребе дома его сожительницы в Масловке, зарезанного и уже остывшего.
Глава XXXIII
Было уже за полночь, когда я, едва забывшись тревожным сном, проснулась из-за шума в коридоре – кто-то громко говорил, рыдала Ильицкая и, кажется, я различала голос ее сына. Я тотчас вскочила на ноги, понимая, что снова что-то случилось, и едва успела набросить поверх сорочки шаль, чтобы выглянуть за дверь.
Так и есть, в коридоре вдоль стен стояли полицейские урядники и увещевали домочадцев, чтобы те оставались у себя – не спал, кажется, весь дом. Голоса же доносились из дальнего конца коридора – оттуда, где была спальня Ильицкого – там горел свет и говорили на повышенных тонах. Однако не успела я сделать и шагу за дверь, как возле меня возник Кошкин:
— Лидия Гавриловна, ступайте спать, вам нечего здесь делать! – совершенно неделикатно он пытался втолкнуть меня обратно в комнату.
— Уберите руки!
То ли от негодования, то ли от волнения у меня взялись откуда-то силы, и я толкнула Кошкина – да так, что, что он отшатнулся к противоположной стене, а после, пока полицейский меня все же не задержал, я бросилась бежать на голоса.
Там, в другом конце коридора, было больше света. Дверь в комнату Ильицкого оказалась раскрытой настежь, а внутри шныряли полицейские и учиняли самый настоящий обыск. Сам Евгений сидел в углу и вяло огрызался на какой-то вопрос Севастьянова, еще не замечая меня.
— Что… что здесь происходит? – вырвалось у меня от отчаяния, потому что я догадывалась, что за обыском неминуемо последует арест. – Вы же хотели прежде допросить цыгана, вы не имеете права вот так просто…
Я произнесла все это скороговоркой и лишь после поняла, что выдала Кошкина – про цыгана я, как и все остальные, не должна была бы знать.
Севастьянов же, прекратив разговор с Ильицким, внимательно на меня посмотрел, разумеется, заметил мою оплошность и сделал выводы.
— Мы не смогли допросить цыгана, Лидия Гавриловна, - отозвался тот на удивление спокойно и даже сделал знак Кошкину не трогать меня. Севастьянов поднялся с кресла и медленно, продолжая со вниманием смотреть мне в глаза, подошел ближе. – А знаете почему? Потому что его нашли мертвым в погребе дома его сожительницы, в Масловке. Ножом со спины закололи, знаете ли.
Я невольно ахнула и отшатнулась от него.
— Ну, не при дамах хотя бы! – поморщился Ильицкий в адрес Севастьянова. – Даже мне от этих подробностей не по себе…
— Прошу прощения, Лидия Гавриловна, - исправник не к месту улыбнулся. – Но согласитесь, что совпадение забавное: только цыган и мог подтвердить ваше алиби, Евгений Иванович, или опровергнуть – а его так не вовремя убили. Или наоборот вовремя?.. – въедливо уточнил он.
Но тут он отвлекся, потому что один из урядников, проводивших обыск, воскликнул вдруг с воодушевлением:
— Пал Палыч! Мы нашли! Мы нашли…
Он бросился к начальнику, подобострастно показывая ему некий очень мелкий предмет, извлеченный, кажется, из кармана сюртука Ильицкого, что висел на стуле. Желая рассмотреть предмет, я сделал шаг вглубь комнаты и остановилась у письменного стола.
Это было золотое украшение – громоздкий перстень без камня, но с вензелем в виде буквы «М», насколько я сумела разглядеть.
Поняв, что это означает, я вновь вскинула испуганный взгляд на Ильицкого – как это перстень оказался в его вещах? Почему? Его подкинули ему, не иначе…
— Вот, Лидия Гавриловна, полюбуйтесь, - Севастьянов, взяв перстень двумя пальцами, показал его мне, давая убедиться, что на нем действительно выгравирована буква «М». – Друзья и приятели цыгана Гришки говорят, что у того из всех ценностей был один-единственный перстенек с буквой «М», а после Гришкиной смерти он, видите ли, пропал. Я-то подумал сперва, что спер кто-то из его же дружков – обычное дело – а потом, думаю, дай-ка у Евгения Иваныча спрошу – вдруг, что знает? И очень, скажу я вам, некрасиво получилось, когда Евгений Иванович сперва отрицал, что перстень этот трогал, а потом его нашли в его же вещичках… Может, теперь хотите что-то сказать, господин Ильицкий?
Я отметила, что особенно удивленным Евгений не выглядел – скорее, ему было досадно. Вот и сейчас он, нахмурившись и почти через силу, произнес:
— Выкупил я этот перстень у Гришки. Неужели ты, любезный, думаешь, что стал бы я руки марать из-за этой побрякушки?
Смотреть на меня Ильицкий старательно избегал.
— Выкупили, Евгений Иванович, или хотели выкупить, да Гришка не отдал? – Севастьянов снова улыбнулся, будто подловил его. – Думается мне, что все же второе.
— Да мне… - Евгений поднял на меня короткий взгляд и проглотил последнее слово, а вместо этого сказал: - Мне все равно, что ты думал. Любезный. Сомневаюсь, что тебе вообще есть чем думать.
Я все это время без выражения смотрела на Ильицкого. Он продолжал топить себя, но, право, для меня было очевидным, что вне зависимости от того, насколько экспрессивными и обидными будут его слова в адрес Севастьянова, его выведут отсюда в наручниках. По-видимому, это понимал и он сам. Мне хотелось только одного, чтобы он просто посмотрел на меня. И, спустя еще минуту, когда Севастьянов уже распорядился увести Ильицкого в казенную карету для доставки в Псков, я этого все же дождалась. Только не было в его глазах ни нежности, на которую так рассчитывала, ни попытки хоть что-то объяснить мне.
Молясь только о том, чтобы он подольше не отводил взгляд, я изо всех пыталась дать ему понять, что верю ему, и что буду с ним до конца. А потом медленно повернула голову назад, оглядываясь на стол, прижавшись к которому я стояла. В верхний ящик этого стола несколько дней назад Ильицкий при мне убирал заряженный револьвер – и он все еще лежал здесь, как я смогла убедиться, приоткрыв ящик за своей спиной, пока все разглядывали перстень, и нащупав пальцами холодную рукоятку. Сама я, разумеется, воспользоваться револьвером не смогла бы, но я сумею передать его Ильицкому, а ему, я уверена, даже стрелять не придется. Ни один из урядников, находящихся в комнате, не вооружен – они выпустят его с револьвером сразу…
Я очень надеялась, что он понял меня правильно и, когда снова подняла взгляд на Ильицкого, он действительно смотрел на этот самый ящик. А потом мрачно и свысока усмехнулся, как будто найдя в происходящем что-то забавное; вновь поднял взгляд на мое лицо и – отрицательно покачал головой, всем видом давая понять, чтобы я и думать забыла о своей затее.
Еще мгновение спустя один из урядников, не зная толком, как теперь обращаться к Ильицкому и так и не решившись надеть на него наручники, попросил его пройти с ним. Я же, заставляя себя молчать, что было сил вцепилась пальцами в столешницу и едва сдерживалась, чтобы не воспользоваться этим револьвером самой… Удерживала более всего меня лишь робкая надежда, что он придумал какой-то другой, более удачный способ побега. Ведь не может же быть, чтобы Ильицкий просто позволил этим людям обращаться с собой как с преступником!..
Но его уводили дальше и дальше по коридору, а я все надеялась на что-то. Лишь когда я вновь услышала рыдания его матери – видимо Ильицкого проводили мимо ее комнаты – я очнулась и скорым шагом направилась туда. Безобразные сцены с истериками матери это самое меньшее, что ему сейчас нужно. Людмилу Петровну я нашла в очень плохом состоянии: простоволосая, в одной сорочке, она цеплялась за рукав Севастьянова и сквозь рыдания умоляла отпустить ее сына. Ильицкий же шел, ровно держа спину, будто не слышал ничего – право, мог хоть слово сказать матери… Не дожидаясь, пока Ильицкую с присущей им деликатностью начнут успокаивать урядники, я сама бросилась к ней и уговорами и просьбами увела все же в комнату. Успокоительный укол Андрея был бы сейчас очень кстати, но Миллер был единственным, кто даже не выглянул – будто его совершенно не волновало, что происходит в доме. Я врала Ильицкой с три короба, обещая, что ее сына вовсе не арестовали, а лишь отвезли для выяснения каких-то подробностей, и он скоро вернется. Это действовало плохо, так что я послала горничную к Аксинье, в надежде, что та приготовит успокоительный отвар или хоть что-то, что остановит ее истерику…
Стоит ли говорить, что той ночью я так и не уснула больше. Когда удалось все же успокоить Ильицкую, я заперлась у себя, потому как совершенно не хотела никого видеть, отвечать на вопросы и делиться своими мыслями. А в мыслях был сумбур.
Однако бездействовать я все же не собиралась: на моем бюро уже лежало несколько начатых писем к Платону Алексеевичу. Я пыталась найти слова, чтобы просить его, умолять приехать сюда и вытащить Ильицкого – у моего попечителя были для этого возможности и, вероятно, я имела право просить. Потому что он уничтожил когда-то моих родителей и, должно быть, чувствовал свою вину – ведь должна же быть причина, по которой он всегда так ласков и предупредителен со мной? Значит, вину он действительно чувствует – и я не имею право этим не воспользоваться сейчас, как бы цинично это не выглядело!
Но… это было бы так бесчестно по отношению к родителям, к памяти о них... Предать их и унижаться, прося помощи у их убийцы. Возвращаясь к этой мысли, всякий раз я мяла начатое письмо и швыряла его в сторону, задыхаясь от душивших меня слез. Я ненавидела себя за это письмо, но садилась, брала чистый лист и начинала заново, зная, что дописать все равно придется. По-другому нельзя. Адреса Платона Алексеевича я, разумеется, не знала: даже когда я писала ему из Смольного, то отправляла письма через Ольгу Александровну – так же я собиралась поступить и на этот раз.
Когда рассвело, я запечатала переписанное раз десять письмо в конверт, переоделась в платье для уличных прогулок, а после озаботилась поиском плотной вуали для шляпки. Дело в том, что после посещения почты я намеревалась заехать в место, где мне совершенно не нужно, чтобы лицо мое видели. В Пскове меня вряд ли бы кто-то узнал, но все же…
Глава XXXIV
В город меня отвез Никифор, благо полиции в усадьбе уже не было, и никто нас не удерживал. На почте я выведала адрес полицейского управления и, покинув здание через черный ход, решила добраться туда на извозчике – не для того я прятала лицо под вуалью, чтобы появляться в полиции с домашним кучером Эйвазовых.
Мне необходимо было поговорить с Ильицким – узнать, зачем ему нужен был этот проклятый перстень и заставить его вспомнить хоть кого-то, кто мог бы подтвердить его алиби. Я очень рассчитывала на помощь Платона Алексеевича, но и он при всех своих связях не волшебник. В любом случае мне нужно было сперва убедить моего попечителя, что Евгений невиновен.
Но мне категорически не везло… В управлении я застала одного только Кошкина – если бы не моя опрометчивая несдержанность сегодня ночью, то лучше бы и быть не могло, но теперь, когда отношения с Кошкиным испорчены… у меня и так было крайне мало шансов, что меня, не родственницу, вообще пустят к Ильицкому, теперь же шансов не осталось вовсе.
Я замешкалась в дверях, когда увидела Кошкина, а тот порывисто поднялся из-за стола, одергивая гимнастерку:
— Утро доброе, сударыня, чем могу… - В этот момент я убрала вуаль от лица, и Кошкин сразу поник: - ах, это вы, Лидия Гавриловна, ну, доброе утро.
Он глядел на меня хмуро и, наверное, недоумевал, зачем я пришла. А впрочем, может, как раз отлично понимал – умственные способности Степана Егоровича я уже имела возможность оценить.
— Здравствуйте… - машинально ответила я, но так и не решилась подойти ближе и даже посмотреть ему в глаза. Я и впрямь чувствовала себя виноватой.
— Кстати, спасибо, что потрохами выдали меня Севастьянову – я о цыгане. По вашей милости вот… в выходной работаю, - он обвел рукой заваленный бумагами и папками стол.
— Простите… я не хотела, чтобы вас наказывали, - я все же подошла к не нему и без приглашения села напротив. – Степан Егорович, мне нужно увидеться с одним из ваших заключенных. С Ильицким.
Тот нахмурился и замотал головой:
— Это исключено! Не подумайте, что я из мести, но… не положено.
— Я понимаю, - с готовностью кивнула я и тотчас полезла в ридикюль.
Внутри лежала специально приготовленная для этого мамина брошка – русские называют это «взятка». Я отлично понимала, что за все в этом мире нужно платить, но больших денег у меня, разумеется, никогда не водилось, а из всех ценностей только брошь и была. Мне нелегко далось решение расстаться с нею, но увидеться с Евгением сейчас казалось важнее. В конце концов, память о маме у меня все равно отобрать никто не в силах, а брошка… брошка это всего лишь вещь. Мама сама же меня и учила, что не следует сильно привязываться к вещам.

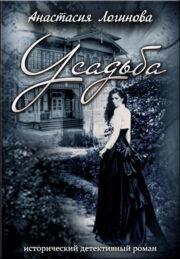
"Усадьба" отзывы
Отзывы читателей о книге "Усадьба". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Усадьба" друзьям в соцсетях.