— Ты хоть знаешь, что он нормандец? — прервала я его, довольная, что наставления патера оказались не слишком продолжительными, между тем осматривая все, что было на столе, в поисках еще какого-нибудь лакомого кусочка. Может, съесть немного каши или кусок паштета?
— Нормандец? — отец наклонил голову вперед. — Откуда ты это знаешь?
— Я говорила с ним.
— Ты с ним говорила? В темнице? Что он сказал?
В голосе отца прозвучали жесткие нотки.
— Ничего особенного. Всего лишь одно предложение, и так, как это всегда говорила мама.
— Что он сказал? Что?
— Он сказал: «Deus vos bensigna». Больше ничего.
Еще назвал меня dame chiere — дорогая дама. Чепуха какая-то! Никакая я не дама. Dame chiere… Этого отцу знать не следовало. В задумчивости я разламывала краюху хлеба. Как от пленника дурно пахло, и его волосы, которые просто кишели вшами! Передо мной стоял горшок, полный кусков отварного мяса. Я вдохнула запах шалфея, который сама сушила в начале лета, и всех других трав — хмм, пахло соблазнительно… Я вонзила нож в розовую мякоть мяса, чтобы положить его на ломоть хлеба, когда отец заговорил вновь:
— Наслаждайся вкусом мяса, дитя мое. Еда, как всегда, замечательна.
Я подняла глаза. Прищурившись, отец наблюдал за мной, улыбался и, неожиданно встретившись со мной взглядом, аккуратно сложил руки на груди. Мною овладело неприятное чувство — я слишком хорошо знала своего отца, чтобы не догадаться о том, что он втайне что-то замышляет…
— Элеонора, я хотел бы подарить тебе кое-что!
Если бы я только знала…
— То, что мой заключенный нормандец, открывает для нас совершенно новые возможности. Совершенно новые… — Несколько секунд он рассматривал свои ногти. — Да, абсолютно новые возможности. Я подумал о том, что мужчину вряд ли следует лишать жизни — вместо этого я подарю его тебе. Он должен стать твоим слугой, и ты будешь распоряжаться им, как тебе заблагорассудится. — Полный ожидания, отец смотрел на меня своими маленькими птичьими глазками. — Ну как?
Кусок мяса так и повис над столом. Я смотрела на него, не шевелясь. Верно ли я расслышала — он хотел подарить мне этого грязного, перепачканного кровью великана? Полуживого дикаря, который, кроме того, даже не владел нашим языком? Сейчас я едва могла поверить в то, что он был нормандцем. Я вновь представила его, дурно пахнущего, огромного, вызывающего страх, как лесное чудище, возможно, обладающего сказочными силами, или как тролля, случайно оказавшегося среди людей, — я ощущала вонь в камере, видела крыс, его глаза, тревожно блестевшие в свете факела…
— Ну, ты не рада? Уже утром он покинет подземелье, чтобы прислуживать тебе. Я тут подумал об одной договоренности…
Итак, предчувствия не обманули меня. Отец никогда ничего не дарил без ответной услуги. Но это было его сущностью, и по ней можно было судить о нем как человеке. Почему он ни разу не смог подарить то, что нравилось и мне? Непроизвольно наморщив лоб, я бросила кусок мяса в горшок. Аппетит пропал.
— Я не хочу его. И боюсь.
Отец покровительственно засмеялся, поднял бокал и выпил за мое здоровье.
— Он тебе ничего не сделает, уж об этом я позабочусь. Я пригвозжу его к воротам замка, если он…
— Я не хочу его!
— Вы не можете доверить свою дочь этому человеку, безбожному преступнику! Господин Альберт, опомнитесь! — Ко мне на помощь неожиданно пришел мой духовник, который навис над столом, от ужаса буквально вытаращив свои светлые глаза. — Обдумайте все еще раз, вы…
— Не говорите несуразицу, патер, речь всего лишь о слуге.
— Отец, он мне не нужен!
— Он будет твоим личным конюхом! — не сдержавшись, прогремел отец. За столом воцарилась тишина. Проснулся даже дядя Рихард и в замешательстве смотрел по сторонам. — Он сможет сопровождать тебя при выездах верхом. С таким эскортом ты будешь в полной безопасности. — Отец протянул обе руки над столом и схватил меня. — Разузнаешь, кто он и откуда родом.
— Моим конюхом? — Я наклонилась вперед. — Отец, этот человек почти мертв! Неужели ты всерьез хочешь, чтобы я имела дело с этим обветшавшим существом?
— Его отчистят, моя дорогая, пусть тебя это не заботит. Под грязью скрыт статный парень, если он только…
— Он едва держится на ногах!
— Нафтали постарается, чтобы он мог стоять.
Патер Арнольдус вновь поднялся со своей табуретки.
— Досточтимый граф, простите мой гнев, неужели вам недостаточно прятать в подземных камерах отравителя, а теперь еще этот дикарь? Что же мне делать во спасение вашей души?
— Молиться, — бросил слово отец и кивнул своему камердинеру. — Следите за расходом денег на свечи, патер, и молитесь, для этого вы, собственно, и здесь.
— Этот дикарь не человек, — не сдержавшись, заявил аббат. — Он не говорит ни на каком языке, не имеет имени — вы можете посадить его на цепь или кинуть в клетку к собакам, что, собственно, не имеет никакой разницы. Но спасению вашей души мешает колдун, Альберт, этот злосчастный колдун.
— Еврей не колдун. — Отец молча смотрел на одетого во все черное человека. Потом медленно встал. — Мое решение непоколебимо. Еврей будет лечить пленника, после этого тот станет слугой моей дочери. Ожесточенность не карается смертью, это должно быть вам известно. Я уверен, что у него развяжется язык, если мы дадим ему понюхать свободы.
Вздох облегчения прошел по небольшому обществу. Зазвенели кубки. Пили за здоровье хозяина замка и хвалили его за дальновидность. Патер Арнольд поспешно удалился из-за стола и направился к часовне. Аббат молчал и мрачно смотрел перед собой. Не в первый раз он требовал смерти пленника, но отец просто не обращал на это внимания. Некоторое время я радовалась его гневу и тому, что не все подчиняется его воле. Невыразительные черты его лица были будто вырублены из камня; он сидел как изваяние святого — покровителя монастыря, спокойный и надмирный. И тут мне пришла на память история, рассказанная патером Арнольдом, о святом Леонарде, которого церковь объявила освободителем пленных и который буквально воспринял слова Нагорной проповеди Христа: «Я был в темнице, и вы навестили меня». И не заключалась ли ирония Всевышнего в том, что аббат от имени святого Леонарда настаивал на лишении жизни пленника?
Итак, освобождение пленника из темницы он назвал договоренностью. Конюх для меня взамен на имя пленника для него. Тайком я наблюдала за своим отцом. Чужестранец был для него важен — это, безусловно, вызывало мое любопытство. Но если тот молчал под пытками, то почему он должен довериться мне? Лиса в женском обличье? Ха! Я невольно укуталась в шерстяное покрывало — несмотря на большой огонь в камине, в зале было холодно. Отцу не повезло и узнать, как зовут нормандца, ему доведется нескоро. Я не была хитрой. Но идея с конюхом не так уж и плоха…
Уже следующим утром отец приказал доставить пленного Нафтали для проведения медицинского обследования.
Конечно, по замку пошли разговоры, слова аббата Фулко, сказанные накануне о еврее-лекаре, стали известны многим. Да еще Ландольф поведал о шуме, раздававшемся из темницы, припомнил резкий запах серы, который, кстати, почувствовала и я, и черную фигуру, прошедшую в ту ночь мимо него. Ландольф, конечно, слышал, будто у Нафтали работали темнокожие слуги, но он был в этом не очень уверен. От фигуры исходил сильный запах серы, а утром Ландольфу пришлось подметать с пола пепел.
Порошок и флаконы с мазями, которые использовал Нафтали, вновь оказались в навозной куче; я видела, как одна батрачка с кухни тайно сожгла за часовней порошок от болей в желудке, который он ей изготовил, бормоча при этом молитву «Аvе Магiа». Вновь ожили слухи об экспериментах в темнице — ее называли лабораторией колдуна: там еврей не только очищал благовонные масла, но и производил золото и секретные эликсиры из ног младенцев и детских глаз, занимался поисками камня мудрости. Каждому опять стало известно, что притащил в замок в своих карманах одетый во все черное посыльный. И счастьем было для этих мужчин то, что никто из них в те дни не разыскивал замок Зассенберг.
Сам Нафтали старался оставаться незамеченным, даже по ночам избегая подниматься на крышу башни, чтобы вести наблюдения за звездами, что он обычно делал по ночам, когда небо было чистым и ясным. Волнения, он знал, утихнут, ему говорили об этом звезды, и его знания, и будущее. О нем можно было забыть, ну а если заболят кости, то вновь вспомнить о его искусстве исцеления…
Так и случилось. Несколько дней люди судачили о жутких историях про евреев, грязном золоте, которым они обменивались между собой и под большие проценты давали христианам в долг, потому что Господь Бог запретил им заниматься приличным ремеслом (только камердинер и я знали, что и мой отец тоже брал в долг деньги), о том, как они пригвоздили Христа к кресту. Потом внизу, в деревне, голодный волк задрал четырех овец, и все спешно занялись тем, что стали осматривать и запирать двери и хлева. Отец подарил селянам целую маховую сажень древесины и прислал людей с молотками и гвоздями, чтобы те подремонтировали избы. К замку мужчины обходили палисад, освещали факелами поврежденные места; и молотки, и страх перед волками заставили забывать еврея и чужеземца.
Да и я уже почти не возвращалась мыслями к пленнику, когда за мной через несколько дней после Крещения пришел на кухню слуга. Отец хотел меня видеть. Я быстро вытерла руки и поспешила через обледенелый двор.
Зал был полуосвещенным и холодным, как склеп. Невнимательные слуги дали огню в камине погаснуть, а через узкие окна, которые на праздники дополнительно завешивались мехами и коврами, беспрепятственно проникал холод и покрывал столы и скамейки тонкой наледью. Так мы могли бы сегодня вечером за ужином замерзнуть насмерть! Кто же был в этом виновен? Мое дыхание превратилось в облако пара, когда я подошла к хорам. Отец стоял возле своего кресла на лестничной площадке. Перед ним на коленях стоял человек. Я узнала его по росту. На чужаке была лишь набедренная повязка, и он сильно замерз. Волосы на голове и борода — я увидела это, лишь подойдя ближе, — были сбриты — старый и еще действующий признак порабощения.
— Дочь моя, на Рождество я пообещал тебе этого раба. Еврей подлечил его, теперь он здоров и трудоспособен, к тому же изучил наш язык. Сейчас мы заручимся его верностью и исполнением долга.
Голос отца зловеще прозвучал в пустом холодном зале. Я замерзла и скрестила руки на груди. При слове «раб» холод пробежал по моей спине. О рабах я знала лишь по рассказам. Крестьяне на наших полях были крепостными, но у них были пусть небольшие, по права… Мужчина, стоявший перед нами, значил меньше, чем самый бедный крепостной. Раб для людей считался вещью, предметом, и относиться к нему следовало соответственно. Именно так наказал отец пленника за необъяснимое упрямство.
Канделябр освещал угол, в котором мы стояли, молочным сумеречным светом, но последствий истязаний на теле викинга заметно не было. Спина его от струпьев и рубцов, покрывавших ее, представляла собой неровную поверхность, похожую на свежевспаханное поле. Они били его кнутами…
Отец заметил, что я отвела взгляд, и придвинул канделябр поближе.
— Полюбуйся-ка на него. Теперь он твой, — промолвил он ободряюще.
Я подошла к пленнику на шаг ближе. На его наголо остриженной голове были видны четкие знаки, ими была расписана вся голова, разрисованными были и его руки; странным образом переплетающиеся линии тянулись от тыльных сторон кистей рук, проходили по всему кожному покрову и поднимались к подмышкам. Я узнала змеиные головы — о Святая Дева Мария! Уж не двигались ли они? Что-то вздрагивало на его руке, возможно, это были тени мерцающего пламени свечей или гусиная кожа, покрывавшая его тело. Я кусала губы, стараясь подавить в себе отвращение, которое испытывала к змеям. Он разрисовал себя змеями! Никогда этот человек не мог быть земляком моей матери, никогда! И он уже не казался мне творением Божиим и был в моем воображении существом призрачным, королем эльфов из черного леса… Взгляд мой упал на мускулистые плечи, и я окаменела, обнаружив на левой половине груди пленника новую забаву отца — герб Аквилла Зассенбергского, выжженный каленым железом. Нежная кожа соска под когтем одного из орлов, изображенных на гербе, сморщилась и исчезла. Зияло красное воспаленное мясо, черные края от ожогов означали, что рана была нанесена недавно. От возмущения у меня перехватило дыхание. О небо! Мой отец, как скотину, клеймил его каленым железом! В этот момент мужчина поднял голову. Из-под густых, покрытых кристалликами снега бровей я увидела глаза, которые однажды так поразили меня. Они обдали меня холодом, ничто не напоминало в них ни цвета, ни слова, ни обращения, они не выражали ничего, кроме безликого холода…
«Он не нужен мне, — подумала я, дрожа в ознобе. — Боже милостивый, я не хочу владеть им».

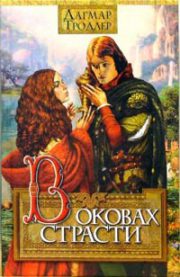
"В оковах страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "В оковах страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "В оковах страсти" друзьям в соцсетях.