— Вы убили священника? — не веря своим ушам, спросила я.
— Этот поступок не более варварский, чем то, что твой отец сделал со мной, — поспешно возразил он. — Жестокость не присуща язычникам, дорогая моя, хотя ваши летописцы все время хотят убедить вас в обратном. Именем вашего Бога, которого они также называют Богом любви, вершатся многие кровавые дела…
— Как только ты можешь говорить такое.
Он обхватил мою шею руками, тепло и нежно, и притянул к себе.
— Я не хочу спорить с тобой об этом, Элеонора. Кто хоть раз начнет спорить о правой вере, может подвергнуть свой мир разрушению. Давай сохранять мир и дружбу. Оставь себе своего Бога и позволь мне оставить себе свои божества. Обещай мне это.
Глаза его при этих словах были очень серьезным. Я нутром почувствовала, что он знал, о чем говорил, и скрепила поцелуем свое обещание.
— На чем я остановился? На Италии, да. Я с трудом мог расстаться с этой страной. Настала зима, когда я отправился через Лотарингию на Север, в ваши леса Эйфелевых гор. Банда разбойников напала на группу путников, к которой я присоединился. Они отобрали все, что у нас было, убили всех мужчин — повезло лишь мне, я один смог сбежать. Целыми днями я шатался по лесу, без коня, оружия, боясь вновь попасть в руки разбойников. Мне не у кого было попросить помощи, я не владел языком, на котором говорят в вашей стране, а крестьяне не говорят по-латыни, — правда, боги в те дни наверняка прокляли меня. Вот тогда меня и поймали люди твоего отца, застав меня за сдиранием шкуры с зайца. Они избили меня так, что я на время перестал видеть и слышать.
Страшная картина вновь возникла у меня перед глазами: кровавая куча тряпья вместе с убитыми животными.
— Браконьерство карается строго. Я видела тебя во дворе и подумала, что ты мертв.
Некоторое время он мрачно смотрел перед собой. О Всемогущий Боже, вскоре он преодолеет жажду мести…
— Они бросили меня в ту темницу, где я и узнал твоего отца. Однажды появился монах с деревянным крестом. Заметив кольцо на моем пальце, он быстро забыл про молитву. Он забрал его с собой и удалился. А позднее твой отец сорвал с моей шеи цепочку.
— Что это было за кольцо? — спросила я.
Мой перстень с печаткой. Широкое золотое кольцо с гербом нашей семьи.
Меня осенило дурное предположение. Я вспомнила о сверкающем украшении, которое видела в аббатстве. Не этим ли объясняется загадочный интерес аббата к чужестранцу, интерес, который в конце концов привел к сговору с целью совершения убийства?
— Я все еще спрашиваю себя, не хотел ли твой отец потребовать за меня выкуп. Но по тому, как я выглядел, никто не смог бы узнать, кто я.
Я удержалась от замечания, что сдержанность в его поведении выдавала его благородное происхождение. Каждый чувствовал тайну, окружавшую его, неделями во всех уголках замка только и разговоров было, что о чужестранце. Мужчины обсуждали его невероятную силу, когда вступали с ним в драку, а женщины судачили по поводу того, как он хорош собой, золотокудрый, с сильными руками! Когда я слышала это, то всякий раз испытывала чувство гордости оттого, что он был моим конюхом… И все же мы мучили его, обесчестили, и совершал это мой отец, а я не препятствовала этому, просто извлекала из этого свою выгоду. Меня мучило сознание того, что мы взяли на себя смертный грех и когда-нибудь обязательно придется за все расплачиваться. Я отвернулась, пытаясь сдержать слезы.
— Yfirboetr liggr til alls…[67] — Он с силой положил мне руки на плечи. — Я не хочу, чтобы ты упрекала себя, слышишь? Посмотри на меня.
Он заставил меня повернуться к нему лицом.
— Прекрасная девушка в слезах, я люблю тебя — тебя, вынужденную по моей милости молчать, и обманывать, и терпеть унижение. Мне продолжать?
— Нет, — прошептала я, — не говори сейчас больше ничего.
Только рыбы были свидетелями нашего красноречивого молчания, а еще — и мастер Нафтали, внезапно появившийся перед нами.
— Элеонора, тебе лучше сейчас уйти. Ранняя месса закончилась, и твоя горничная наверняка уже ищет тебя. Герман проводит тебя наверх, — предостерег старик.
Эрик медлил отпускать меня. Он снял с розового куста платок и накинул на меня.
— Чтобы они тебя узнали.
Я встала, поправляя одежду.
— Ты придешь еще, дорогая?
Я осторожно кивнула. Он положил на живот руку.
— Муравьи опять закопошились.
— Прыгни в пруд, мальчик мой, они и успокоятся, — поддразнил его еврей и взял меня за руку
Подойдя к увитому растениями входу в скалу, я еще раз обернулась и, бросив взгляд в его сторону, заметила, как он неподвижно и мечтательно смотрит на сверкающую водную гладь, будто не может поверить в то, что случилось.
Нафтали провел меня через пещеру мимо своего лабораторного стола к двери. Там он остановился и посмотрел на меня.
— Что я сделал, старый дурак, — пробурчал он себе под нос. — Вы… вы не можете… ты девочка, ты должна быть осторожной. Опять придешь только тогда, когда я тебя позову.
— Но как…
— Я уверен, что за тобой установили слежку. Появляясь здесь, ты подвергаешь его жизнь неимоверной опасности. А теперь ступай, быстро. — Он отворил тяжелую дверь. — Я скоро позову тебя.
На дрожащих ногах я поднялась на поверхность земли, назад, к своей прежней жизни, оставив свое сердце в темнице.
После столь насыщенных событиями дней непросто было освоиться в однообразии повседневности. Неужели было время, когда такая моя жизнь казалась мне нормальной? Жизнь, в которой не было этих голубых глаз и от мысли о поцелуе не бежали по спине мурашки… Я старалась ничего не упустить из поля зрения. Проветривались сундуки для хранения одежды, складские помещения содержались в чистоте. Но я не замечала проеденных молью дырок на нарядах, а мешки с зерном мне приходилось пересчитывать вновь и вновь.
Патер Арнольд объяснял мою явную рассеянность пережитым на озере. Он наставлял меня, объяснял, как умерщвлять свою плоть, чтобы получить прощение. И выдал мне власяницу, чтобы я носила ее вместо нижнего белья, а так как я все еще считала себя виновной, то носила ее до тех пор, пока она не натерла кожу до красноты. Когда мы сидели в часовне и читали псалмы, он спрашивал иногда о пережитом в лесу. Маленький патер, казалось, придавал не такое уж большое значение моему испытанию на озере. Рассказ о черте в деревенском пруду благодаря церковному служителю привлек всеобщее внимание, и, конечно, тут же нашли дохлую рыбу, хотя все, кто хорошо разбирался в этом, заверяли, что не видели тогда на водной поверхности ни сажи, ни копоти. Патер Арнольд, напротив, надеялся на исповедь, которая внесла бы ясность в представление о состоянии моей души. Я исповедовалась ему в тишине нашей часовни кое в чем, но страх за Эрика запечатывал мои губы, едва речь заходила о варваре…
Глава 14.
О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои — как стадо коз, сходящих с горы…
Не спрашивайте меня, как я провела последние дни. Я не осмеливалась без приглашения Нафтали прийти в темницу из-за страха подвергнуть опасности сокровище, которое там скрывалось. Как в беспамятстве, я бегала, изо всех сил стараясь сосредоточиться на выполнении повседневных дел. Все время воскрешая в памяти его лицо и слова, я щипала себя, чтобы очнуться от своих фантазий. Он поцеловал меня — не каждый же мог это видеть? Наверное, это отражалось на моем лице, оно светилось, сияло, и слезы, словно жемчуг блестели на моих ресницах. Я чувствовала, что за мной наблюдают. Майя, мой отец, патер Арнольд — все они смотрели на меня подозрительно и настороженно и, казалось, читали по моим глазам о счастье, которое переполняло меня, и о грехе, который завладел мною…
Лишь в ночные часы, когда без сна лежала я в кровати, прислушиваясь к спокойному дыханию спящих, я позволяла себе без стыда думать о человеке в темнице, облик которого в мечтах являлся мне каждую ночь, по которому я так скучала, желая увидеть его.
Между тем было время епитимьи, для меня среди благоухающих блюд и дымящихся горшочков стояли лишь хлеб и вода. Но вид яств нисколько не волновал меня. В глубине души я ощущала голод другого свойства, много греховнее. Что касается епитимьи, то я была убеждена в правомерности моего наказания и готова была испытать его сполна. Если бы Всевышний смилостивился и простил бы все содеянное нами над сыном короля!
Патер Арнольд педантично отсчитывал листы с псалмами, которые я должна была читать до самой свадьбы, — их было свыше тысячи. Тысяча псалмов! Мои колени болели от жесткой деревянной скамейки у молельного места, где я проводила многие часы епитимьи, видя перед собой богато отделанный крест Спасителя и в сердце надеясь на спасение. Власяница немилосердно натирала кожу и в душе я проклинала ее. Утром патер пришел с каким-то железным поясом, и я обещала ему во время молитвы надеть его на мою израненную талию. Он жал и натирал мне тело, отвлекая от чтения псалмов.
Мысли мои путались. Я размышляла о том, что церковь позволяла верующим легкое раскаяние. Сначала обрекают тебя на епитимью на целую вечность, что разрушает личность, а потом дают возможность довольно просто откупиться. Немного самобичевания, здесь золотая чаша, там пожертвование церкви или небольшой надел плодородной земли — подходило все. Насколько мне известно, отец уже оплатил монастырю мое искупление грехов. Господь должен был меня покарать, но получалось, что представители Вседержителя на земле неплохо наживались на отпущении грехов. Тот, кто висел на кресте и страдал за людей, бросил на меня уничтожающий взгляд. Стыдись, казалось, говорил он, своих богохульных мыслей, не подобающих женщине, разве ты этого еще не знаешь? Я заметил, что у тебя плохое окружение…. Я широко раскрыла глаза. Уж не подмигнул ли он мне? Нет, он, как и прежде, висел на кресте. И не было ли это знаком для меня усилить свои старания? Я вновь овладела собой и снова сложила руки для молитвы.
Моя младшая сестра, казалось, была единственной, кто чувствовал, что со мной происходит. Мы сидели у окна под лучами послеполуденного солнца, и я вычесывала колтуны из ее волос. Она же заботливо гладила мою коротко стриженную голову.
— Элеонора, ты ведь опечалена тем, что белокурый мужчина умер, правда? Но ты же сделала все, чтобы спасти его. Поверь мне, всемилостивый Господь знает об этом.
Ее серые, излучавшие тепло глаза смотрели на меня с грустью. Я не открыла своей сестре правду. Как и все вокруг, она считала Эрика умершим. Еврей напугал меня, сказан, что в приступе лихорадки она может, сама того не желая, выдать нашу тайну. Больная девочка очень переживала потерю своего друга, который часто веселил ее своими рассказами.
— И Ганс знает об этом. Оттуда, где он сейчас, он, конечно, может видеть все, что происходит на земле, так же, как и наша мама. Он рассказывал мне, что то место, где живут его божества и куда попадает после смерти воин, называется Валхалл. Дочери самого главного бога приходят за ним на восьминогом коне. Только представь себе — конь о восьми ногах! Как же быстро он может скакать! А потом он встречается со всеми другими воинами, и они празднуют эту встречу целый день. И они едят жаркое из свинины, свинью доставляют им прямо туда, где они находятся, и они сами забивают ее, только представь себе!
Она мечтательно накручивала на палец прядь волос. Восьминогий конь, свинья-привидение. Это было очень похоже на него — рассказывать ребенку такие богохульные истории.
— Ты же знаешь, что все это глупости, Эмилия. Ганс был язычником и…
— Ах, если бы он не умер! Он так хорошо относился ко мне! — Слезы заблестели в ее глазах, и она тут же плутовато ухмыльнулась. — А тебе он всегда дерзил, помнишь? Элеонора, я думаю, что ты ему нравилась. Он часто смотрел на тебя во время ваших споров, как будто сожалел о ваших разногласиях. — Она поцеловала меня в щеку. — Думаю, вы стали бы чудесной парой, — печально прошептала она.
Я крепко сжала губы и опять взяла в руку расческу. Какая пара? Здесь сидела будущая супруга господина Кухенгейма в ожидании своей помолвки, а тот, кому принадлежало ее сердце, скрывался в темнице, готовый в скором времени покинуть ее. Вот и все, что ждало меня впереди. Я пригладила Эмилии волосы и, поцеловав ее, пошла к себе.
В воскресенье, через две недели после Пасхи, произошло наконец то, чего я ждала днем и ночью: мастер Нафтали позвал меня в темницу. Майя взглянула на меня с подозрением, когда Герман передал, что я должна спуститься в подземелье, так как лекарь составил для Эмилии новое лекарство и он должен дать мне свои рекомендации. С внутренней дрожью от ожидания скорого свидания вечером в назначенное время я вошла в подземелье. На мой громкий стук открыл сам Нафтали в лабораторной шапочке, держа кельму с порошком.

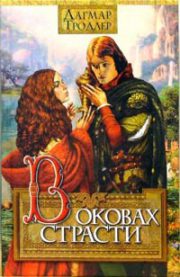
"В оковах страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "В оковах страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "В оковах страсти" друзьям в соцсетях.