— Думаешь, что сможешь предотвратить то, что уже решено? — Тихо спросил он наконец.
Я уставилась в одну точку, в горле стоял ком. Картинки воспоминаний одна за другой сменялись в моей памяти, сжимались, образуя одно лицо, растекающееся, даже не приняв четких очертаний.
Нафтали раскрыл свой саквояж и вынул оттуда стеклянную амфору.
— Я хочу, чтобы ты принимала содержимое каждый день по одной ложке. Это укрепит тебя. — Он приподнял мой подбородок. — Еще хочу, чтобы ты начала есть.
Больше он не сказал ничего, а занялся моими руками, вымыл их в воде с приятным запахом, намазал жгучей мазью, перебинтовал раны. Гизелла обнюхала амфору, Майя что-то делала над емкостью с водой, обе с любопытством прислушивались к происходящему, но еврей за все время не проронил больше ни слова.
Наконец он встал, повесил саквояж на плечо и произнес:
— Каждый должен преодолеть путь с высоко поднятой головой. Может, то, чем испытывает нас Господь, не так уж и плохо.
Почти каждый день он стал приходить, чтобы осматривать мои руки. Его средство было отвратительным на вкус, зато уже через несколько дней у меня появился аппетит. Однажды он принес целый чайник мятного напитка, хлеб с тмином, испеченный Тассиа, и принудил меня чуть откусить от него. Ничего не понимая, смотрел он, как я, разразившись слезами, через некоторое время съела весь хлеб.
На следующий день он принес какой-то мешочек, который и передал мне, когда Майя вышла ненадолго за дверь.
— Что это? — поинтересовалась я и попыталась развязать узел на плетеном шнуре с бахромой. Он быстро накрыл мои пальцы своей ладонью.
— Оставь это, — произнес он. — Ты только напугаешь всех.
Я принялась дальше возиться со шнуром, развязала узел и вытянула из мешочка нечто, напоминающее корень.
— Что это? — вновь спросила я, рассматривая клубень с корнями.
— Это корень мандрагоры, приносящий, по народному поверью, богатство и счастье.
Я вскрикнула и выронила его из рук.
Он нагнулся, чтобы подобрать корень. В полутьме казалось, что волшебные корни шевелятся, как руки, хватают лекаря за пальцы, жадно и сладострастно.
— Некоторые люди говорят, что корень мандрагоры помогает в печали.
Нафтали снова спрятал корень в мешок. Потом взглянул на меня.
— Может статься, поможет и тебе.
Шаркая ногами, вошла Майя, и Нафтали незаметно запихнул мешочек мне под подушку.
Той же ночью я сожгла корень мандрагоры на крыше женской башни, лишь только луна скрылась за облаком. Не отрываясь, смотрела я на пламя, изображая в воздухе знак креста, чтобы отвести от себя злые силы, совсем не отдавая себе отчета в том, что делаю. Ведь еврей хотел всего лишь помочь мне. И чего, собственно говоря, я боялась: волшебного корня или его воздействия? Держа палец прямо в огне, я думала, как хорошо было бы вообще ничего не чувствовать…
Нафтали никогда больше не вспоминал о корне. А когда даже самые страшные раны на моих руках зажили, он не переставал навещать нас, принося с собой для Эмилии цветные камешки, а для меня хлеб от Тассиа. В присутствии лекаря я немного успокаивалась и даже откладывала в сторону кожаный ремень. Моя душа, дико хлопающая крыльями, как хищная птица, на время затихала. Старый еврей, как и прежде, начинал рассказывать библейские истории о Руфи и Ноемини, или о Юдифи, которая обезглавила Олоферна. Он держал мою руку в своей, чтобы я сидела спокойно и дослушала все до конца.
— А ты помнишь, — спросил он однажды вечером, когда сделал мне перевязку, — помнишь о видении, которое как-то у меня было?
Я взглянула на него. Лицо его показалось мне серым и осунувшимся. Часть меня хотела повернуться и убежать, не думать, не вспоминать, не разговаривать…
— Перед осадой. Ты спрашивала тогда, должны ли мы все умереть.
— У тебя было видение, еврей? — вмешалась в разговор Майя. — Лучше бы об этом не знать ее благочестивому отцу…
Властным, повелительным движением руки он заставил горничную замолчать.
— Помнишь, Элеонора?
Вспомни. Вернуться в прошлое, вызвать в памяти лица, события, чувства… Я застонала, положив руку на живот, и вызвала в памяти день и час, уже лежавшие под развалинами пережитого, — мужчины со зловеще блестящими топорами и острыми мечами ждали в красной крови…
— Оно оказалось вещим.
Я повернула голову.
— Что вы подразумеваете под этим?
Нафтали не мигая смотрел перед собой.
— Один посыльный доставил мне сообщение из Кёльна. После… после восстания было море крови. На моей родине в Гранаде еврейская община была утоплена в крови… многие сотни были убиты. — Он закрыл лицо руками. — Море крови. Да смилостивится над нами Господь — так много погибших. Один раз моя семья должна была спасаться бегством — пятьдесят лет тому назад. Я был еще ребенком, когда мы ночью в густом тумане покидали Кордобу, так как мой отец попал в немилость…
Он давно уже ушел, унеся с собой свою тоску по погибшим, а я все еще продолжала сидеть на подоконнике, крепко сжав перебинтованные пальцы. Нить воспоминаний тянулась из далекого прошлого, и была она связана и с огненным драконом, и с предвестником несчастий из леса…
Моей сестре наконец удалось вернуть меня к действительности. На улице шел проливной дождь, и я легла к ней, чтобы согреть хоть немного. Майя принесла нам на подносе молочную кашу, но мы не стали ее есть. Я — поскольку с удовольствием ела только хлеб с тмином. Эмилия тоже терпеть не могла жидкой каши, она окунала в миску палец и давала облизывать его собачке.
— А чем же вы питались в лесу? — с детской непосредственностью спросила Эмилия.
Я испуганно вздрогнула и попыталась спрятаться под одеялом.
— Ты ведь никогда не рассказывала об этом, Элеонора. Расскажи хоть немного. Что вы там делали?
Слезы потекли по моим щекам, и даже Эмилия, как ни старалась, не могла остановить этих слез. Сестра обняла меня, поцеловала, слегка касаясь моего лица своими косами.
— Ты должна рассказать мне о нем, Элеонора. Когда ты думаешь о нем, то он с тобой, и ты не должна плакать так много. Ты можешь поговорить с ним так, как я с мамой. Я говорю с ней каждый день.
— И что? Что она говорит?
Я подняла голову и обхватила Эмилию рукой, чтобы ей удобнее было лежать. Что может знать об этом ребенок…
— Она спрашивает, когда я приду к ней. И ждет меня.
— Но, Эмилия…
— Элеонора, я же понимаю, что должна умереть, мастер Нафтали сказал мне об этом, — с удивлением услышала я. — И патер Арнольд говорит, что я сразу попаду на небо, потому что у меня чистое сердце. Мама ждет меня, это точно. Как думаешь, много места там, наверху на небе? Можно ли прыгать от одного человека к другому, как с облака на облако?
Она задумчиво взглянула в окно. Я так и не поняла, что Эмилия имела в виду. Кроме того, я ненавидела ее разговоры о смерти.
— Может, я встречу Эрика там, наверху? Как ты думаешь?
— Ты его обязательно увидишь там, — промолвила я сдавленным голосом.
Она закрыла глаза и улыбнулась, полная приятного ожидания.
— Расскажи мне о лесе. Что вы там делали? Почему вас так долго не было?
Ну как я могла отказать ей в чем-нибудь? Я посмотрела на нее, ее серое узкое лицо, лоб, покрытый каплями пота, — температура повысилась к вечеру.
Ради Эмилии я погрузилась в воспоминания, которые в последние недели немыслимыми усилиями запрятала в самые отдаленные уголки своей души. Взяв в руки кожаный ремень, я принялась развязывать один узел за другим… Мне было несказанно трудно, но я нашла в себе силы и подходящие слова, чтобы рассказать ей о травнице-знахарке, о пещере и о ночи на лесной поляне. И о комете, которая при содействии Нафтали опять вошла в мою жизнь и которая все еще вселяла в меня страх…
— Ты не испугалась кометы?
— Конечно, испугалась! Стало так темно, будто дикие звери собрались все вместе, хотя их и не было видно, а потом возникла эта издающая свечение, светлая, таинственно летящая звезда. Она тихо пересекла небо… ты даже не сможешь себе это представить. Но… но я… — Я сглотнула, прикусив губы. — Я была не одна.
Эмилия долго молчала, и я уже было подумала, что она уснула.
— Элеонора?
— Гмм?
— Элеонора… он целовал тебя? В лесу, когда вы были совсем одни? Целовал? — Глаза ее блестели, но, возможно, причиной этому был жар. — Он целовал тебя?
Я закрыла глаза и сжала под одеялом руки в кулаки. Меня охватил озноб. Белые зубы, твердые губы, вкус аниса на языке… Анис. Тассиа любил жевать семена аниса и давал их ему. Мои руки и ноги покрылись гусиной кожей, тело мое напряглось. Белые зубы, голубые глаза. Я вновь почувствовала на своем лице его губы, нежные, как перо. Изо всех сил сдерживая себя, я на мгновение опять погрузилась в воспоминания…
— Скажи же, целовал?
Я посмотрела на нее долгим взглядом, а потом утвердительно кивнула:
— Да. Да. Он поцеловал меня.
— О, Элеонора. — Она села на кровати и взяла меня за руку. — Расскажи мне, как это было. На что похож поцелуй? На медовую конфету?
Я невольно рассмеялась.
— Нет. Никакая не медовая конфета. Может, немного похож на…
— Ну, на что же? Я не знаю ничего слаще меда. Так как же?
Я схватила кожаный ремень, словно он поможет сохранить мне выдержку. Вспомни.
— Поцелуй… это как…
Бог мой, я заплакала. Поцелуй — это слезы, судорожные глотки, огонь, словно стрела, пронзающая тело в поисках цели, боль, дурная и прекрасная одновременно… И вдруг… вдруг вновь возникло ощущение, будто кто-то с силой затягивал на моей шее веревку, и мне уже невозможно было дышать. И пусть будет, что будет. Просто перестать сопротивляться, упасть.
Я собралась с духом.
— Поцелуй похож на восход солнца, Эмилия. Когда солнце просвечивает сквозь облака, окрашивая все небо в красный цвет, и когда зарождается во всей своей свежести новый день. Тогда дышат полной грудью, как только что появившийся на свет человек. Но… немножко ты думаешь и о том, что твоя жизнь, похоже, закончена.
— Почему?
— Не знаю. Это потрясает тебя, и тебе кажется, что от тебя почти ничего не остается… как во сне, а ты все никак не можешь проснуться. Так странно…
Не отрываясь, смотрела я на поверхность одеяла. Эмилия опять легла. На некоторое время в комнате стало тихо-тихо. Снизу в нашу комнату прорывалась болтовня девушек-служанок Аделаиды, и можно даже было слышать жужжание веретен, под которое они рассказывали свои леденящие душу истории.
— Поцелуй — это как смерть?
— Небо… Эмилия, нет, я так не думаю! — в испуге вскричала я.
Она спокойно убрала волосы со лба и стала рассматривать звезды, вышитые на балдахине.
— Я мечтаю о том, что когда-нибудь хоть раз смогу поцеловаться. Всего один только раз, — проговорила она.
Глава 16.
Только Он — твердыня моя, спасение мое, убежище мое; не поколеблюсь более.
Силы Эмилии убывали день ото дня. Она увядала, как цветок летом. Сначала с ее лица пропали все краски, а потом исчезли и силы. Мы еще несколько дней провели в саду, где она спала на солнышке, а я часами находилась рядом, дежурила возле ее кресла, поигрывая своим кожаным ремнем. Мысли мои были неспокойны, уносясь через стены замка ввысь, в летнее небо, и терялись там в облаках. Иногда с нами сидел господин фон Кухенгейм, демонстрировал свою мантию или просто болтал. Мне не удавалось совладать со своим мятежным духом и следить за его разговором; в большинстве случаев я, ничего не понимая, молча смотрела на него, заставляя тем самым своих горничных удивляться и хихикать украдкой. Эмилия терпеть не могла рыцаря и всякий раз прикидывалась спящей.
Однажды с яблони, под которой стояло ее кресло, упало несколько соцветий. Словно снежинки, они парили в воздухе, падали на волосы Эмилии, а потом нежно и холодно целовали ее лицо, прежде чем упасть на одеяло.
На следующий день с дерева облетели все цветы, а на одной ветви полдня, не двигаясь, просидела черная ворона. Гизелла опустилась на колени, крестясь, клялась всеми святыми не пить более вина ни капли, но даже и это не воспрепятствовало ухудшению здоровья Эмилии.
Мы правильно истолковали зловещее предзнаменование: мучительный кашель раздавался в башне. Ночи напролет я просиживала у ее кровати, заваривая настойки из рожкового клевера, шандра и меда, держала плевательницу и гладила ее руку. Когда она после понижения температуры лежала на простынях вся в поту, я обмывала ее лавандовой водой и меняла белье. Девушки из свиты Аделаиды постоянно предлагали свою помощь, но я, кроме Нафтали и своих горничных, никого не хотела видеть подле моей сестры. Почти все успокоительное средство, которое принес Нафтали, исчезло в глотке Гизеллы, а остатки выглядели совсем неаппетитно и уже потеряли свои свойства. Мне было безразлично, с каким кушаньем являлась Майя, я по-прежнему не могла есть ничего, кроме хлеба.

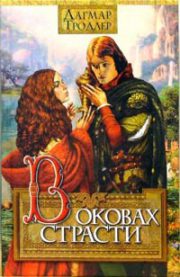
"В оковах страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "В оковах страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "В оковах страсти" друзьям в соцсетях.