— Без смеха, сударь, без смеха! — воскликнула Валентина в приступе праведного гнева.
— Прощайте, Валентина, — продолжал граф. — Я достаточно опытен, поверьте, я не пущу себе пулю в лоб, обнаружив неверность; но у меня хватает здравого смысла, и я не хочу служить ширмой для такой юной экзальтированной особы, как вы. Поэтому я не требую, чтобы вы рвали свои связи, которые еще имеют для вас романтическую прелесть первой любви. Вторая кончится быстрее, а третья…
— Вы оскорбляете меня, — печально отозвалась Валентина, — но да будет мне защитой бог. Прощайте, сударь, благодарю вас за этот жестокий урок, попытаюсь воспользоваться им.
Супруги простились, и через четверть часа Бенедикт с Валентином, прогуливавшиеся по обочине дороги, увидели, как мимо промчалась почтовая карета, увозившая в Париж благородного графа и его ростовщика.
35
Испуганная, смертельно уязвленная оскорбительными предсказаниями мужа, Валентина удалилась к себе в спальню, желая скрыть слезы и стыд. Ей стало страшно при мысли о том, как жестоко карает свет такие увлечения, и она, привыкшая свято уважать мнение общества, содрогнулась от ужаса, припомнив свои ошибки и неосмотрительные поступки. Сотни раз перебирала она в уме и отвергала планы спасения от неминуемой опасности, искала вовне силы противостоять соблазну, так как не находила их более в себе, ужас перед падением подточил ее силы, и она горько упрекала судьбу, отказавшую ей в помощи и поддержке.
«Увы, — говорила она, — муж меня оттолкнул, мать меня не поймет, сестра ничем не способна помочь… Кто остановит меня на этой круче, с которой я вот-вот сорвусь вниз?»
Воспитанная для жизни в высшем свете и согласно его правилам, Валентина не находила в нем той опоры, на которую вправе была рассчитывать хотя бы в возмещение принесенных ею жертв. Если бы она не обладала неоценимым сокровищем веры, она, несомненно, попрала бы в отчаянии все правила, внушенные ей с юных лет. Но религия поддерживала ее и сплавляла воедино все ее идеалы.
Этим вечером она не нашла в себе силы увидеться с Бенедиктом, она даже не известила его об отъезде графа и льстила себя надеждой, что он ничего не узнает. Зато она послала записочку Луизе и попросила ее к обычному часу прийти в павильон.
Но как только сестры встретились, мадемуазель Божон тут же послала Катрин в парк предупредить Валентину, что ее бабушка совсем разнемоглась и хочет ее видеть.
Нынче утром старая маркиза выпила чашку шоколаду, но ее ослабший организм не смог переварить такую тяжелую пищу, старуха почувствовала стеснение в желудке, и ее начало жестоко лихорадить. Их старый врач, господин Фор, нашел положение больной весьма серьезным.
Валентина поспешила к бабушке и старательно ухаживала за ней; но вдруг маркиза приподнялась на постели и потребовала, чтобы ее оставили наедине с внучкой, причем произнесла эти слова так внятно, как уже давно не произносила, и смотрела так ясно, как уже давно не смотрела. Все присутствовавшие немедленно удалились, за исключением мадемуазель Божон, которая не могла допустить мысли, что подобное требование распространяется также и на нее. Но старая маркиза силой какого-то чудесного превращения обрела под влиянием лихорадки ясность рассудка и воли и властно приказала своей компаньонке покинуть спальню.
— Валентина, — обратилась маркиза к внучке, когда они остались вдвоем,
— я хочу попросить тебя об одном одолжении, уже давно я умоляю об этом Божон, но она только сбивает меня с толку своей болтовней, а ты, ты мне поможешь.
— О бабуся! — воскликнула Валентина, опускаясь на колени возле постели.
— Говорите, приказывайте.
— Так вот, дитя мое, — сказала маркиза, понизив голос и наклоняясь к внучке, — я не хочу умирать, прежде чем не увижу твою сестру.
Валентина вскочила и бросилась к сонетке.
— О, сейчас, сейчас, — произнесла она. — Луиза здесь, совсем близко, как же она будет счастлива! Ее ласки вернут вам, дорогая бабушка, жизнь и здоровье!
Катрин по распоряжению Валентины побежала в павильон за Луизой.
— Но это еще не все, — добавила маркиза, — я хочу видеть также и ее сына.
Валентин, которого послал в замок Бенедикт, тревожась о Валентине и не смея сам явиться к ней без зова, как раз вошел в парк, когда там появилась Катрин. Через несколько минут Луизу с сыном уже ввели в спальню маркизы.
Брошенная столь жестоко бабушкой, Луиза совсем забыла ее, но когда она увидела на смертном одре бледную и дряхлую старуху, когда вновь увидела лицо той, чья снисходительная нежность худо ли, хорошо ли была отрадою первых лет ее невинной и счастливой жизни, — она ощутила, как в душе ее проснулось неискоренимое чувство уважения и любви, неотъемлемое от нашей первой привязанности. Она кинулась в объятия бабушки, и горючие слезы оросили грудь той, что баюкала ее в детстве, хотя сама Луиза полагала, что источник слез уже давно иссяк.
Старуха, в свою очередь, испытала сильнейшее волнение при виде Луизы, некогда столь резвой, столь щедро одаренной молодостью, пылкостью и здоровьем, а ныне бледной, хрупкой и печальной. И она выказала в отношении старшей внучки такую любовь, которая была для этой души как бы последней вспышкой неизреченной нежности, что даруют небеса женщине в ее материнском призвании. Старуха просила прощения за то, что забыла старшую внучку, и просила так униженно, что сестры разрыдались, не в силах скрыть свою признательность; потом она обняла Валентина своими слабеющими руками, восхищаясь его красотой, изяществом, сходством с теткой. Он унаследовал черты графа Рембо, последнего сына маркизы, и отсюда шло его сходство с Валентиной. Но прабабка обнаружила в мальчике также сходство и с ее покойным мужем. В самом деле, не смогли же исчезнуть с лица земли эти священные семейные узы! Нет ничего более впечатляющего для сердца человека, чем некий тип красоты, который как драгоценное наследие переходит из рода в род и запечатлевается в баловнях семьи. Что может быть дороже чувств, где слились воедино воспоминания и надежды! Какая власть заключена в существе, чей взгляд возрождает в твоей душе прошлые годы, любовь и горе, целую жизнь, которая, казалось, угасла, и вдруг ты обнаруживаешь ее трепетные следы в улыбке ребенка.
Но вскоре это волнение улеглось в душе маркизы то ли потому, что она уже истощила отпущенную ей природой способность предаваться чувствам, то ли возобладала прирожденная легкость характера… Она усадила Луизу у постели, Валентину в углу алькова, а мальчика у своего изголовья. Она заговорила с ними умно, и весело, и так непосредственно, будто расстались они только накануне, расспрашивала Валентина о его занятиях, вкусах, о его планах на будущее.
Напрасно внучки уверяли маркизу, что такая длинная беседа утомит ее, мало-помалу они заметили, что рассудок ее мутится, память слабеет: удивительное присутствие духа, с каким она только что держалась, уступило место туманным и расплывчатым воспоминаниям, каким-то смутным мыслям, щеки ее, разрумянившиеся от лихорадки, приняли лиловый оттенок, язык стал заплетаться. Врач, явившийся на зов Валентины, прописал ей успокаивающее средство. Но нужды в нем не оказалось, старушка слабела на глазах — все понимали, что она скоро угаснет.
Потом, вдруг приподнявшись на подушках, бабушка подозвала к себе Валентину и, махнув рукой, приказала всем прочим отойти в дальний угол спальни.
— Вот о чем я сейчас вспомнила, — негромко проговорила она. — Так я и знала, что забыла что-то, а мне не хотелось умирать, прежде чем я не скажу тебе одну вещь. Я отлично знаю кое-какие твои секреты и только делала вид, что мне ничего не известно. Ты не пожелала мне довериться, Валентина, но я уже давно догадываюсь, что ты влюблена, дитя мое.
Валентина задрожала всем телом, страшные события, происшедшие за эти два дня, потрясли ее, и ей почудилось, будто устами умирающей бабушки вещает голос свыше.
— Да, это правда, — призналась она, пряча свое пылающее лицо в леденеющих ладонях маркизы, — я виновна, но не проклинайте меня, скажите мне хоть слово, которое вернуло бы мне жизнь и спасло бы меня.
— Ах, детка, — ответила маркиза, пытаясь улыбнуться, — не так-то легко спасти такую юную головку от страстей! Что ж, в последние минуты жизни я могу позволить себе быть искренней. Зачем бы мне лицемерить перед всеми вами? Ведь я через мгновение предстану перед лицом господа. Нет, не существует никаких средств предохранить женщину от подобного зла, особенно такую молодую женщину. Итак, люби, детка, это лучшее, что есть в жизни. Но выслушай последний совет бабушки и запомни его: никогда не бери себе в любовники человека неравного с тобой положения…
Тут дар речи изменил старой маркизе.
Несколько капель микстуры продлили ее жизнь еще на несколько минут. Она улыбнулась болезненной улыбкой окружавшим ее и пробормотала про себя молитву. Потом снова повернулась к Валентине.
— Скажешь матери, что я благодарю ее за все добрые поступки и прощаю дурные. В конце концов она относилась ко мне не так уж плохо для женщины низкого происхождения. Признаюсь, я не ждала этого от мадемуазель Шиньон.
Последние слова маркиза произнесла с подчеркнутым презрением. Больше от нее ничего не услышали; очевидно, старуха считала, что жестоко отомстила невестке, отравившей ей старость своим несносным характером, разоблачив при всех буржуазное происхождение мадам де Рембо, что в глазах маркизы было самым крупным пороком.
Потеря бабушки, хотя и отозвалась болью в сердце Валентины, не была для нее сокрушающим несчастьем. Тем не менее она, особенно в теперешнем своем состоянии духа, решила, что злополучный рок нанес ей еще один удар, и с горечью твердила про себя, что все, кто мог бы стать для нее естественной опорой, покинули ее один за другим, и словно нарочно как раз в то время, когда были ей особенно необходимы.
Окончательно пав духом, Валентина решила написать матери с просьбой поспешить ей на помощь и одновременно пошла на жертву не видеться с Бенедиктом, пока не выполнит до конца свой долг. Поэтому Валентина, отдав последний долг покойной бабушке и вернувшись домой, заперлась у себя; сказавшись больной, она не велела никого принимать, а сама села за письмо графине де Рембо.
Хотя жестокость господина де Лансака должна была бы отвратить Валентину от новой попытки поверять свои муки бесчувственному сердцу, она все же униженно исповедовалась перед гордой женщиной, с детства приводившей ее в трепет. Не выдержав душевной боли, Валентина нашла в себе мужество отчаяния решиться даже на этот шаг. Она уже не рассуждала, все страхи отступили перед самым ужасным страхом, владевшим ее душой. Она, не раздумывая, бросилась бы в пучину, лишь бы убежать от своей любви. Впрочем, сейчас, когда у нее отняли все и отняли разом, новая боль не так мучительно отдавалась в ее душе, как в обычное время. Она чувствовала в себе избыток энергии, способной победить ее самое, все казалось ей по силам, кроме борьбы с Бенедиктом; проклятия всего света были ей не так страшны, как мысль собственными глазами увидеть страдания своего возлюбленного.
Итак, она призналась матери, что любит «не мужа, а другого человека». Больше ничего она о Бенедикте не сообщила; зато живо обрисовала состояние своей души и настоятельную потребность в опоре. Она умоляла мать вызвать ее к себе; помня, какой безответной покорности требовала графиня, Валентина ни за что на свете не решилась бы приехать в Париж без соизволения матери.
Хотя госпожа де Рембо не грешила избытком материнской нежности, ее тщеславию, возможно, польстила бы исповедь дочери; возможно, она уступила бы просьбе, если бы с той же самой почтой не получила другого письма, тоже отправленного из замка Рембо; письмо это она прочла первым, и в нем оказался сделанный по всей форме навет, принадлежавший перу мадемуазель Божон.
Сия старая девица чуть не спятила от зависти, видя, что маркиза на смертном одре приблизила к себе свою новую семью; особенно же разгневало компаньонку то обстоятельство, что маркиза подарила Луизе на память несколько старинных драгоценностей. Она сочла это прямым посягательством на свои законные права и, не смея открыто сетовать, решила хотя бы отомстить; итак, она, не мешкая, написала графине, чтобы сообщить ей о смерти свекрови, и, воспользовавшись этим предлогом, рассказала о близости между Валентиной и Луизой, о «скандальном» появлении Валентина в деревне, воспитываемого при участии госпожи де Лансак, но, главное, распространялась о том, что она назвала «тайнами павильона», так как не только поведала графине о нежной дружбе сестер, но и в самых черных тонах расписала их отношения с племянником фермера, с крестьянином Бенуа Лери; Луизу она представила как заядлую интриганку, которая гнусно покровительствует преступной связи сестры с «этим мужланом»; добавила, что, к сожалению, уже слишком поздно поправить зло, ибо эта связь тянется вот уже добрых пятнадцать месяцев. В конце письма она довела до сведения графини, что господин де Лансак, безусловно, сделал на сей счет кое-какие неприятные открытия, ибо укатил в Париж через три дня и с женой не общался.

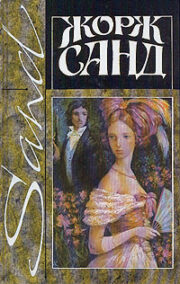
"Валентина" отзывы
Отзывы читателей о книге "Валентина". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Валентина" друзьям в соцсетях.