– Как там ваш адмирал, дорогая? – прошептала мне на ухо герцогиня де Граммон. – Ваш роман продвигается, не так ли?
Я вовсе не воображала, будто наша с Франсуа связь является для кого-то тайной, поэтому тихо вздохнула в ответ.
– Милая герцогиня, существует столько препятствий на пути к счастью.
– Душа моя, вы говорите банальности.
– Что поделаешь, если жизнь так банальна.
– Нужно искать в ней только то, что оригинально… Если перед вами только два выхода – отказаться от любви или изменять мужу, изобретите третий.
– Третий? Но какой?
– Разведитесь.
– Что вы такое говорите? При мысли, какой это будет скандал, мне становится дурно.
– Зато вы приобретете необычайную популярность.
– Я не стремлюсь к этому, – возразила я.
В конце концов, весь этот разговор был так поверхностен. Наши с Франсуа отношения не поддаются никакому объяснению, они так сложны, что я не могу обсуждать их ни с кем, я даже сама не могу разобраться в себе до конца…
Подали десерт – сладкие ликеры, шоколад, пирожные и желе в маленьких вазочках. Мальвазия так подействовала на гостей, что беседа приняла вольный характер, временами переходящий границы благопристойности. Ради острого словца позволяли себе говорить решительно все…
– У некоего герцога родился сын, – рассказывал Шамфор, считавшийся одним из самых модных писателей. – Разумеется, счастливый отец, преодолев оборону повитух и акушерок, прорвался к супруге. «Святой Боже, неужели родился мальчик! – восклицает он. – Друг мой, дай-ка мне взглянуть, на кого он похож!» «Ты его не знаешь», – отвечает супруга…
Подобные анекдоты были любимейшим коньком Шамфора, на них он нажил и славу, и состояние. Рассказывать такие истории он мог три часа кряду.
– Знаете, как наш благочестивый епископ Диллонский обращался со своей первой любовницей? О, это была презабавная история… Епископ поначалу был неискушен в делах плоти – до тех пор, разумеется, пока к нему на исповедь не явилась дама. Женщина эта была хороша собой, весела, молода и чувственна. Ей легко было толкнуть прелата на дорожку развлечений. Слово за слово, и епископ с красавицей оказались в одной постели. Но поскольку князь церкви был невыносимо робок, женщина стала притворяться, что ей холодно. Епископ принес одно одеяло, другое… «Мне все равно холодно! – твердила дама, слегка удивленная недогадливостью святого отца. – Как же вы бестолковы, отец мой! В такую погоду мой муж согревает меня своим телом!» Бедняга епископ не понял намека и возопил: «Помилуйте, мадам, да где же я в такую погоду найду тело вашего мужа?»
Дамы слушали эти рассказы без всякого смущения; это были невиннейшие из историй, рассказываемых Шамфором.
– Вот они, прелаты! – произнес Сильвен Байи, академик и астроном. – Подумать только, полторы тысячи лет держали нас во тьме и невежестве, а сами развлекались самым отвратительным образом! Помните, у Вольтера в его «Девственнице»? «Иному церковь строится до смерти, в аду – его поджаривают черти».
– Фанатизм был проклятием нашего века, пора покончить с фанатизмом, с убийствами, с кровью! Нужно проникнуться философским духом Вольтера и Дидро, проникнуться человеколюбием, которое одно достойно нашей эпохи.
– Дидро? Но разве можно говорить о его человеколюбии, если он говорил: «Кишкой последнего попа последнего царя удавим»?
Эти слова Дидро встретили бурное одобрение, послышались аплодисменты.
– Дидро, конечно, преувеличивал, тогда было время тирании и произвола, он был вынужден говорить так остро… Но в целом его мысль вполне современна.
– Он был против религии, и это главное.
– Господа, – сказал, поднимаясь, Вик д'Азир, известный врач и анатом, основатель Королевского медицинского общества, – давайте выпьем за то, что Бога нет. Лично я так же уверен в этом, как и в том, что Гомер был глупцом.
Тут все принялись толковать о Боге и о Гомере; впрочем, среди присутствующих нашлись такие, которые сказали доброе слово и о том, и о другом. Постепенно беседа приняла более серьезный характер. Писатель и критик Лагарп выразил восхищение революцией, которую произвел в умах Вольтер, и все согласились, что именно это, прежде всего, делает Вольтера достойным своей славы: «Он явил собой пример своему веку, заставив читать себя в лакейской, равно как и в гостиной». Шамфор, покатываясь со смеху, рассказал о своем парикмахере, который, пудря его парик, заявил: «Я, видите ли, сударь, всего лишь жалкий недоучка, однако верю в Бога не более, чем другие». И все сошлись на том, что суеверию и фанатизму неизбежно наступит конец, что место их заступит философия, что революция умов не за горами, и уже принялись подсчитывать, как скоро она наступит и кому из присутствующих доведется увидеть царство разума воочию. Люди более преклонных лет, в частности академик Байи, сетовали, что им до этого уже не дожить, молодые радовались тому, что у них на это большие надежды. А более всего превозносилась Академия за то, что она подготовила великое дело освобождения умов, являясь средоточием свободомыслия и вдохновительницей его.
Один только гость, не разделяя пламенных этих восторгов, проронил несколько слов по поводу горячности этих речей. Это был Жак Казот, старый писатель, автор нашумевшего мистического романа «Влюбленный дьявол». Он слыл чудаком, который, на свою беду, пристрастился к каббалистике и магии, но в общем производил впечатление человека довольно обходительного.
– Можете радоваться, господа, – сказал он наконец, – вы все увидите эту великую и прекрасную революцию, о которой так мечтаете. Я ведь немного предсказатель, как вы, вероятно, слышали, и вот я говорю вам: вы увидите ее. Только будущая действительность явно перещеголяет все ваши мечты.
Эро де Сешель ответил ему словами из модной песенки:
Чтоб это знать, чтоб это знать,
Пророком быть не надо!
– Пусть так, – невозмутимо отвечал Казот, – но все же, может быть, и надо быть им, чтобы сказать вам то, что вы сейчас услышите. Знаете ли вы, что произойдет после революции со всеми нами, здесь сидящими, и будет непосредственным ее итогом, логическим следствием, естественным выводом?
– Гм, любопытно! – произнес маркиз де Кондорсе со своим обычным недобрым смешком. – Жуткими пророчествами занимается и мой отец. Но все равно это любопытно. Почему бы философу не побеседовать с прорицателем?
– Вы, господин де Кондорсе, кончите свою жизнь на каменном полу темницы. Вас погубит невинный томик Горация, который обнаружат в вашем кармане. Вы умрете от яда, который, как и многие в те счастливые революционные времена, вынуждены будете постоянно носить с собой и который примете, чтобы избежать руки палача. Но ваша участь будет даже завидной для некоторых: других ваших товарищей сгрызут волки в пустынных бордосских ландах.
Мне стало нехорошо от этих слов. Желая замять неловкость, вызванную словами Казота, я произнесла:
– Господин Казот, то, что вы нам здесь рассказываете, право, куда менее забавно, чем ваш «Влюбленный дьявол». Но что за князь тьмы подсказал вам такие вещи? Темница, яд, палач… Что общего может это иметь с философией, с царством разума?
– Об этом-то я и говорю. Все это случится с нами именно в царстве разума и во имя философии, человечности и свободы. И это действительно будет царство разума, ибо разуму в то время будут воздвигнуты храмы, более того, во всей Франции не будет никаких других храмов, кроме храмов разума.
– Ну, – сказал Шамфор с язвительной усмешкой, – уж вам-то никогда не бывать жрецом подобного храма.
– Надеюсь, сударь. Но вот вы, господин Шомфор, вполне этого достойны, вы им будете и, будучи им, бритвой перережете себе жилы в двадцати двух местах, но умрете вы только несколько месяцев спустя.
Все молча переглянулись. Затем снова раздался смех.
– Вы, господин Вик д'Азир, не станете резать себе жилы собственноручно, но, измученный жестоким приступом подагры, попросите это сделать других, думая кровопусканием облегчить свои муки; вам пустят кровь шесть раз кряду в течение одного дня – и той же ночью вас не станет. Вы, господин Николаи, кончите жизнь на эшафоте; вы, господин де Байи, – на эшафоте; вы, господин де Мальзерб, – на эшафоте…
– Ну, слава тебе, Господи, – смеясь, воскликнул Руше, – господин Казот, по-видимому, более всего зол на Академию, а так как я, слава Богу, не…
– Вы? Вы кончите свою жизнь на эшафоте.
– Да что же это такое, в самом деле? Что за шутки такие! Не иначе, как он поклялся истребить нас всех до одного!..
– Нет, вовсе не я поклялся в этом…
– Что же это, мы окажемся вдруг под владычеством турок или варваров или…
– Нет. Ведь я уже сказал: то будет владычество разума. И люди, которые поступят с вами так, будут философы, и они будут произносить те самые слова, которые произносите вы здесь вот уже добрый час. И они будут повторять те же мысли, они, как и вы, будут приводить стихи из «Девственницы» и Дидро…
Шамфор наклонился к моему уху:
– Вы же видите, мадам, он просто сумасшедший.
– Да нет, – отвечала я громко, натянуто улыбаясь, – господин Казот просто шутит. В шутках есть доля загадки, вот и все.
– Так-то оно так, – сказал Шамфор, – но его загадки на сей раз что-то не очень забавны. Больно уж они попахивают виселицей. Ну, и когда же это будет, по-вашему?
Казот вздохнул:
– Не пройдет и пяти лет, и все, что я сказал, свершится.
– Да уж, чудеса, нечего сказать, – произнесла я. – Ну а мне, господин Казот, вы ничего не предскажете? Какое чудо произойдет со мной?
– С вами? С вами, принцесса, действительно произойдет чудо. Вы останетесь живы и выйдете замуж за буржуа.
В ответ раздались громкие восклицания.
– Ну, господа, – воскликнула я, – будьте теперь спокойны. Если вам суждено погибнуть после того, как я, принцесса д'Энен снизойду до брака с буржуа, вы можете считать себя бессмертными.
– Мы, – сказала герцогиня де Граммон, – мы, женщины, счастливее вас, к революции мы непричастны, это не наше дело; то есть немножко, конечно, и мы причастны, но только я хочу сказать, что так уж повелось, мы ведь ни за что не отвечаем, потому что наш пол…
– Ваш пол, мадам, не сможет на этот раз служить вам защитой. И как бы мало ни были вы причастны ко всему этому, вас постигнет та же участь, что и мужчин…
– Да послушайте, господин Казот, – воскликнула я, – что это вы такое проповедуете, конец света, что ли?
– Этого я не знаю. Знаю одно: герцогиню де Граммон со связанными за спиной руками повезут на эшафот в простой тюремной повозке, так же как и других дам вашего круга.
– Ну уж, надеюсь, – сказала герцогиня, – ради такого торжественного случая у меня будет карета, обитая черным в знак траура…
– Нет, мадам, и более высокопоставленные дамы поедут в простой тюремной повозке, с руками, связанными за спиной…
– Более высокопоставленные? Уж не принцессы ли крови?
– И еще более высокопоставленные…
Это было уже слишком. Среди гостей произошло замешательство, и я, уловив, что честь королевы задета, помрачнела. Желая рассеять тягостное впечатление, я перебила герцогиню, готовую продолжать расспросы, и шутливо заметила:
– Того и гляди, вы не оставите герцогине даже духовника…
– Вы правы, мадам, у нее не будет духовника, так же как и у других. Последний казненный, которому в виде величайшей милости даровано будет право исповеди…
Он остановился.
– Ну же, договаривайте, кто же этот счастливый смертный, который будет пользоваться подобной прерогативой?
– И она будет последней в его жизни. Я говорю о короле Франции.
Я резко встала, полагая, что пора положить этому конец, за мной поднялись с мест все остальные.
Я подошла к Казоту и взволнованно сказала ему:
– Дорогой господин Казот, довольно, прошу вас! Вы слишком далеко зашли в этой мрачной шутке и рискуете поставить в весьма неприятное положение и общество, в котором находитесь, и самого себя.
Казот ничего не ответил и, в свою очередь, поднялся, чтобы уйти, когда его остановила госпожа де Граммон, которой, как ей было это свойственно, хотелось обратить все в шутку и вернуть гостям хорошее настроение.
– Господин пророк, – сказала она, – вы тут нам всем предсказывали будущее, что ж вы ничего не сказали о самом себе?
Некоторое время он молчал, потупив глаза.
– Мадам, – произнес он наконец, – приходилось ли вам когда-нибудь читать описание осады Иерусалима у Иосифа Флавия?
– Кто же этого не читал?
– Так вот, во время этой осады, мадам, свидетельствует Иосиф Флавий, на крепостной стене города шесть дней подряд появлялся некий человек, который, медленно обходя стену, возглашал громким, протяжным и скорбным голосом: «Горе Сиону! Горе Сиону!» «Горе и мне!» – возгласил он на седьмой день, и в ту же минуту тяжелый камень, пущенный из вражеской катапульты, настиг его и убил наповал.

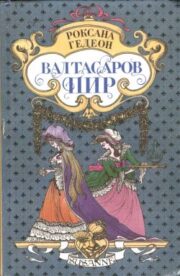
"Валтасаров пир" отзывы
Отзывы читателей о книге "Валтасаров пир". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Валтасаров пир" друзьям в соцсетях.