Даже к Исабель, которая горюет по своему мужу, вернулась улыбка. Даже вечно надутая Хуана, кажется, умиротворена. А я — я становлюсь любимицей всего двора: меня балуют и садовники, позволяют срывать те персики, которые я хочу, и в гареме, где меня учат петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах, и на кухне, где дозволяют смотреть, как готовятся восточные сладости.
Отец встречается с иностранными посланниками в Посольском зале, еще они иногда, как принято у эмиров, беседуют в бане. Матушка, по-турецки скрестя ноги, сидит на троне Насридов, которые правили здесь веками, — голые ступни в мягких шлепанцах из сафьяна, рубаха-камиза свободными складками драпирует тело. В зале, облицованном цветным изразцом с изящными арабесками и летящими надписями, она выслушивает посланников самого Папы. Матушка здесь как дома, ведь она выросла в мавританском дворце Алькасар в Севилье. Мы бродим по их садам, моемся в их банях-хамамах, носим их надушенные сафьяновые туфли… В целом наше существование здесь столь изысканно и роскошно, что в Париже, Лондоне или Риме о такой жизни могут только мечтать. Мы живем сладостно и грациозно. Так, как всегда стремились: как мавры. Собратья-христиане в горах пасут коз, молятся Мадонне в придорожных часовнях, тела их страдают от болезней, они невежественны, полны суеверий, живут в грязи и умирают молодыми. А нам преподают мусульманские ученые, нас лечат их врачеватели, мы заучиваем названия звезд в небе, которым они дали имена, ведем счет, пользуясь цифрами, которые они придумали, начиная с магического нуля, вкушаем выращенные ими сладчайшие фрукты и наслаждаемся водой, протекающей по хитро построенным ими акведукам. Возведенные ими строения радуют взор своей красотой. Былое могущество мавров нам на пользу: Алькасаба и впрямь неуязвима для новой атаки. Мы читаем стихи их поэтов, играем в придуманные ими игры… Мы победили, но они показывают нам, как должно правителям жить. Порой я думаю, что мы варвары, подобные тем, что пришли после римлян и греков. Те силой врывались во дворцы, а потом садились на трон, как мартышки, и наслаждались прекрасным, не понимая его.
Но, по крайней мере, мы не сменили своей веры. Самый последний слуга во дворце обязан хотя бы сделать вид, что исповедует христианство. Голоса муэдзинов, созывающие правоверных к молитве, больше не звучат с минаретов. Это приказ моей матери. Не хочешь подчиниться — уезжай в Африку. Не хочешь уезжать — либо немедля крестись, либо сгоришь на костре инквизиции. Удобная, покойная жизнь не смягчила наших сердец, мы помним, кто тут победитель и что победа далась нам силой оружия и Господней волей. При заключении перемирия мы торжественно обещали бедному Боабдилу, что его подданные-мусульмане будут столь же покойно жить при нашем правлении, как жили христиане, когда правил он. Мы обещали обеспечить сосуществование, и он поверил, что мы создадим такую Испанию, где все — мавр, христианин или иудей — смогут жить в мире и согласии, поскольку все они являются «людьми Книги». Ошибка Боабдила состояла в том, что он свято верил в условия перемирия, а мы, как выяснилось, нет.
Всего три месяца держали мы свое слово, а потом выдворили евреев и принялись угрожать мусульманам. Каждый должен обратиться в истинную веру, и, если он сделает это, но в искренности его намерений возникнет хоть тень сомнения, дело святой инквизиции с ним разобраться. Только единая вера создаст нацию, единый народ из пестрого разнобоя, населяющего Андалузию. Моя мать устроила часовню в зале Совета, и там, где вилась арабская вязь, гласящая: «Войди и спроси. Не бойся искать правосудия, ибо здесь ты найдешь его», она молится суровому, более грозному, чем Аллах, Богу; за правосудием сюда больше не ходят.
Но изменить природу дворца невозможно. Даже сапоги наших солдат, грохочущие по мраморным плитам пола, не в силах поколебать царящий здесь вековой покой. Я прошу Мадиллу прочесть для меня надписи, вьющиеся по стенам каждой комнаты, и самая моя любимая — не про обещание правосудия. Та, что мне нравится, находится в зале Двух сестер и вопрошает: «Видывал ли ты сад прекраснее этого?» — и сама же отвечает себе: «Нет на свете сада прекрасней, изобильней плодами, слаще и благоуханней».
Это даже не совсем дворец, он не такой, как те, где мы жили в Кордове или Гренаде. Это и не замок, и не крепость. Он строился изначально прежде всего как сад, а комнаты здесь, со всей их роскошью, для того, чтобы было где жить в саду. Это цепочка двориков, устроенных так, чтоб удобно было и цветам, и людям. Это воплощенная в жизнь мечта о красоте: стены, изразцы, колонны представляют собой подобие растительного мира, все оплетено цветами, ползучими растениями, ветками фруктовых деревьев и травами. Истратив за столетия огромные средства, мавры создали этот рай на земле.
Да, и я его люблю. Даже девочкой я понимаю, что это необыкновенное место, что никогда в жизни мне не найти ничего прекрасней. Но я знаю, что остаться здесь мне нельзя. Это воля Господа и моей матери — я покину мой тайный дворец, мой сад, мой рай. Такова моя участь. Мне было суждено в шесть лет от роду найти самое красивое место на земле, а потом, в шестнадцать, покинуть его с той же тоской в сердце, какая мучила Боабдила. Моему счастью и покою не суждено длиться долго.
Дворец Догмерсфилд, Гемпшир, сентябрь 1501 года
— Говорю вам, сэр, сюда нельзя! Да будь вы хоть сам король Англии, все равно нельзя!
— Я и есть король Англии, — без тени юмора проговорил Генрих Тюдор. — И пусть она немедленно явится, не то я войду к ней сам, и мой сын следом за мной!
— Инфанта уже отправила письмо королю, где уведомила, что не может его принять, — испепеляя его взглядом, сказала дуэнья. — Дворянин из свиты ее высочества поскакал ко двору его величества, дабы объяснить, что испанской принцессе до свадьбы полагается жить уединенно. Неужто вы думаете, сэр, что король Англии сядет на коня и примчится, когда инфанта отказалась его принять? Что он за человек, по-вашему?
— Вот такой он человек! — рявкнул король и к самым ее глазам поднес кулак так, чтобы она увидела массивный золотой перстень.
Тут в комнату вбежал граф де Кабра, сразу признавший короля в поджаром сорокалетнем мужчине, который, простирая кулак, наседал на дуэнью. Однако и дуэнья успела разглядеть на перстне новый герб Англии, сочетавший в себе розы Йорка и Ланкастера. Граф склонился в низком поклоне и голосом, сдавленным оттого, что голова его уткнулась в колено, прошипел:
— Мадам, это же король!
Дуэнья тихо ахнула и сделала самый глубокий реверанс.
— Встаньте, — коротко приказал король, — и приведите ее!
— Но, ваше величество, она испанская принцесса, — встав из поклона, но не подняв, из почтения, головы, возразила упрямая дуэнья. — Полагается, чтобы ее высочество оставалась в уединении до самого дня свадьбы. Ее нельзя видеть. Придворный кабальеро как раз и отправился к вам, чтобы это объяснить. Таков обычай.
— Это ваш обычай, не мой. А поскольку она моя будущая невестка, находится в моей стране и под покровительством моих законов, то пусть изволит следовать моим обычаям!
— Ее высочество воспитана в самых строгих правилах…
— В таком случае ее высочеству наверняка будет крайне неприятно обнаружить в своей опочивальне незнакомого мужчину. Мадам, еще раз настоятельно прошу вас немедленно привести принцессу.
— Увольте, ваше величество. Я выполняю приказы ее величества королевы Испании, и мне велено проследить, чтобы инфанте были оказаны все подобающие почести, а поведение ее безупречно…
— Мадам, приказы здесь отдаю я. Говорю вам, довольно медлить, приведите принцессу, не то, короной клянусь, я пойду к ней сам, и, если застану голой в постели, заметьте, она будет отнюдь не первой дамой, которую я застал в таком положении. Но пусть помолится, чтобы оказалась самой хорошенькой!
От нанесенного оскорбления дуэнья переменилась в лице.
— Ну, выбирайте! — твердо сказал король.
— Привести инфанту я не могу, — упрямо ответила она.
— Господи боже ты мой! Ну, значит, скажите ей, чтобы ждала гостей!
Рассерженной вороной дуэнья кинулась в покои принцессы. Король выждал не более полуминуты и последовал за ней.
Комната была освещена свечами и огнем в очаге. Покрывала на постели откинуты так, словно с нее вскочили в испуге. От присутствия в девичьей опочивальне — простыни еще теплые, аромат юного тела витает в воздухе — Генрих почувствовал знакомое волнение в крови. Сама принцесса стояла у кровати, вцепившись беленькой ручкой в резной столбик полога. Успела-таки накинуть на плечи темно-синий плащ, у ворота выбились тонкие кружева белой ночной рубашки, густые золотистые волосы заплетены на ночь в косу, закинутую на спину, лицо полностью спрятано черной кружевной мантильей.
— Ваше величество, это инфанта. — Донья Эльвира заслонила собой принцессу. — Под вуалью она будет до самого дня свадьбы.
— Ну уж нет, — сухо отозвался король. — Я должен знать, как выглядит невеста моего сына.
Он сделал шаг вперед. Дуэнья в отчаянии только что не бросилась на колени:
— Прошу вас пощадить скромность ее высочества…
— У нее что, какой-то изъян? — резко сказал он, облекая в слова пугавшую его мысль. — Родимое пятно? Или изъязвлена оспой, а от меня это скрыли?
— Нет! Клянусь вам!
Девушка молча поднесла руку к кружевной оборке вуали. Дуэнья ахнула, протестуя, но ничего не предприняла, и принцесса, подняв мантилью с лица, откинула ее за спину. Ясные голубые глаза не мигая уставились на морщинистую, сердитую физиономию Генриха Тюдора. Король окинул ее взглядом и перевел дух.
Настоящая красавица! Округлое лицо с чистой кожей, длинный прямой нос, пухлые, чувственные губы. Подбородок чуть вздернут, взгляд вызывающий. Ничуть не скромница, не трепетная лань. Настоящая прирожденная принцесса, из тех, кто не теряет достоинства даже в столь неловком, неблагоприятном положении, как сейчас.
Склонившись в поклоне, он представился:
— Я — Генрих Тюдор, король Англии.
Принцесса присела в реверансе.
Он сделал шаг вперед, к ней, и почувствовал, как она силой воли удерживает себя, чтобы не отшатнуться. Твердо взял за плечи и поцеловал, сначала в одну теплую щеку, потом в другую. А когда от запаха ее волос и жара молодого женского тела у него застучало в висках, торопливо отступил, отпустил ее.
— Добро пожаловать в Англию, — сказал он и покашлял, прочищая горло. — Вы должны простить мне мое нетерпеливое желание вас увидеть. Мой сын следует за мной.
— Это я прошу прощения у вашего величества, — ледяным тоном ответила принцесса на церемонном, велеречивом французском. — О том, что ваше величество настоятельно удостаивает нас чести этого неожиданного визита, меня поставили в известность лишь минуту назад.
Генрих даже поежился:
— У меня есть право…
Очень по-испански она пожала плечами:
— Разумеется. У вас есть все права на меня!
От дерзкого ответа, который в интимной атмосфере девичьей спаленки — кровати под балдахином, маняще откинутых одеял, подушки, еще хранящей отпечаток ее головы, — прозвучал довольно вызывающе, его снова окатило желанием. То была сцена, пригодная скорее для обольщения, чем для знакомства двух царственных особ.
— Я подожду вас в приемной, — резко сказал он, словно это по ее вине не мог избавиться от мысли — каково было бы сжать в объятиях юную красотку… Каково было бы купить ее для себя, не для сына?
— Сделайте одолжение, — холодно отозвалась она.
Он развернулся и вышел из комнаты так резко, что едва не столкнулся с принцем Артуром, который неуверенно топтался в дверях.
— Осел, — буркнул король.
Принц, бледный от волнения, нервно откинул упавшую на лоб светлую прядь и промолчал.
— Чертову дуэнью отошлю прочь, едва появится случай, — сказал король. — И всех остальных тоже. Нечего мне тут Испанию разводить! Народ этого не потерпит, да и я, черт побери, тоже!
— Народ вроде не против. Похоже, простому люду принцесса нравится, — вяло возразил Артур. — Люди из эскорта говорят…
— Это потому, что она носит эту дурацкую шляпу. Потому что зрелище непривычное. Как же, испанка! Потому что молоденькая и… — он запнулся, — и хорошенькая!
— Правда? — оживился принц. — Хорошенькая?
— Разве я только что не вошел туда, чтобы это проверить? Однако ни один англичанин, сын мой, не потерпит этих испанских глупостей, едва они потеряют свою новизну. И я, понятно, не потерплю. Цель этого брака — закрепить союз между нашими странами, а потому, нравится испанка кому-нибудь или нет, ты на ней женишься. И лучше бы ей уже выйти, не то она мне не понравится, а это единственное, что может иметь значение!

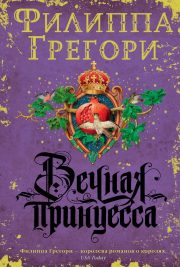
"Вечная принцесса" отзывы
Отзывы читателей о книге "Вечная принцесса". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Вечная принцесса" друзьям в соцсетях.