— Что ж, женщина без сердца, о чем ты думаешь своим ясным умом с тех пор, как решила не слышать своего тела?
— Откуда мне знать, что я должна думать? Моя матушка умерла. Самый близкий мне в Англии человек… — Я прерываю себя, не договорив, чтобы не упомянуть Артура. — Я никому не могу верить. Одна повитуха твердит одно, другая другое… Врач не уверен… просто ему хочется верить в то, что он говорит, потому что король щедр к тем, кто приносит ему добрые вести. Откуда мне знать, как все на самом деле?
— На мой взгляд, ты знаешь это, несмотря ни на что, — мягко настаивает он. — Твое тело подсказывает тебе. Твои месячные, я полагаю, не восстановились?
— Восстановились, — неохотно говорю я. — На прошлой неделе.
— С болью?
— Да.
— Груди у тебя мягкие?
— Да.
— Полней обычного?
— Нет.
— Ты чувствуешь дитя у себя в животе? Оно шевелится?
— Нет, я ничего там не чувствую с тех пор, как выкинула девочку.
— Сейчас тебе больно?
— Нет. Я чувствую…
— Да?
— Ничего. Ничего я не чувствую.
Он перестает задавать вопросы, сидит спокойно и дышит так тихо, что мне кажется, в комнате у меня мирно спит черный кот. Потом он переводит взгляд на Марию.
— Мне дозволено будет касаться королевы?
— Нет. Никому это не дозволено.
Он поводит рукой.
— Королева такая же женщина, как любая другая. Она хочет ребенка, как любая другая. Почему я не могу коснуться ее живота, как делаю со всякой женщиной, которой нужна помощь?
— Это королева, — повторяет Мария. — Трогать ее нельзя. Тело ее священно.
Он улыбается, как будто это в самом деле смешно.
— И все-таки, я надеюсь, кто-то его касался — иначе она бы не понесла.
— Это не повод для шуток! — одергивает его Мария.
— Итак, если я не могу осмотреть королеву, то тогда мне придется сказать ей, что я думаю, только на основании того, что я вижу. Ей придется довольствоваться догадками. — Он повернулся ко мне. — Если б ты была обычная женщина, а не королева, сейчас я бы взял тебя за руки.
— Зачем?
— Потому что мне придется сказать тебе то, что нелегко выслушать.
Я медленно протягиваю ему руки, унизанные бесценными кольцами. Он бережно принимает их в свои ладони, мягкие, как прикосновение ребенка. Его черные глаза взирают на меня без страха, на лице написаны нежность и сострадание.
— Если у тебя было кровотечение, то, скорее всего, чрево твое пусто. Там нет младенца. Если твоя грудь не полней обычного, значит она не наполнена молоком и тело твое не готовится к материнству. Если на шестом месяце ты не чувствуешь, как ребенок шевелится внутри тебя, то либо он мертв, либо его там нет. Если ты ничего не чувствуешь, то, самое вероятное, дело в том, что чувствовать нечего.
— Но живот мой до сих пор вздут. — Я откидываю накидку и показываю ему, как круглится под рубашкой живот. — И он твердый. Я совсем не толстая, но выгляжу так же, как перед выкидышем.
— Возможно, там воспаление, — задумчиво говорит он. — Или же — будем уповать на Аллаха, что это не так, — опухоль. Или плод, который еще предстоит из себя исторгнуть.
Я вырываю у него свои руки:
— Ты желаешь мне зла!
— Ни в коей мере! Для меня ты не Каталина, инфанта Испанская, а женщина, которая ждет от меня помощи. Мне от души тебя жаль.
— Ничего себе помощь! — сердито вмешивается Мария. — Избави нас Господь!
— В любом случае я тебе не верю, — говорю я. — Ты думаешь одно, доктор Филдинг другое. С чего мне верить тебе, а не доброму христианину?
Он смотрит на меня долго, внимательно и нежно.
— Мне жаль, что я не могу предложить тебе лучшего. Но думаю, найдется немало таких, кто скажет тебе что-то поутешительней. Я же верю в то, что нужно говорить правду. Я буду молиться за тебя.
— Мне не нужны молитвы неверного, — резко говорю я. — Уходи прочь и забери с собой свои дурные слова и свои молитвы!
— Пребудь с миром, инфанта, — с достоинством отвечает он, словно я его не оскорбила, и кланяется. — И раз ты не хочешь, чтобы я молился за тебя перед своим Богом, благословенно будь его имя, то тогда я буду надеяться, что во времена испытаний твой доктор окажется прав и твой собственный Бог тебе поможет.
Я молчу, и он удаляется, тихий, как черный кот, вниз по секретной лестнице. Я слышу его спокойный, размеренный шаг, его сандалии постукивают так же, как шлепанцы слуг у меня дома в Испании. Я слышу мягкий шелест его длинного платья, так непохожего на жесткие, плотные одежды англичан. В воздухе понемногу рассеивается запах, который он принес с собой, теплый и пряный аромат моей родной стороны.
И когда он совсем, бесповоротно ушел и Мария де Салинас, повернув ключ, закрыла за ним дверь, мне отчаянно захотелось плакать, и не только потому, что приговор его оказался тяжким и суровым, но и потому, что ушел один из немногих людей в этом мире, способных сказать правду.
Весна 1510 года
Екатерина не рассказала своему юному мужу ни о визите чернокожего лекаря, ни о том, что тот думает о состоянии ее здоровья. Она никому об этом не рассказала, даже леди Маргарет Пол. Положилась на свою судьбу, призвала на помощь гордость и убежденность в том, что она избранное дитя Божье, и, не позволяя себе сомнений, продолжила жить так, словно беременна. Основания для этого у нее были. Лекарь-англичанин, мистер Филдинг, по-прежнему излучал уверенность, повитухи ему не противоречили, и весь двор находился в убеждении, что в марте или апреле Екатерина родит.
Генрих, нетерпеливо ожидавший появления первенца, как только это произойдет, собирался устроить большой турнир в Гринвиче. Потеря дочери ничему его не научила, он хвастался всем и каждому, что у него скоро родится здоровое дитя. Его остерегли лишь, что не к добру предсказывать пол ребенка, и с тех пор он твердил, что ему все равно, кто это будет, принц или принцесса. Кто бы ни родился, он будет любить его как первый плод их с королевой счастливого брачного союза.
Екатерина держала свои сомнения при себе и даже с Марией не делилась тем, что ни разу не чувствовала, как шевелится дитя в чреве. При этом день ото дня ей становилось все неуютней, ее знобило, все больше она смотрела на окружающий мир словно издалека. Подолгу простаивала на коленях в часовне, но Господь не заговаривал с ней, и даже голос матушки вроде замолк. Все сильней донимала тоска по Артуру, и это были не страстные томления молодой вдовы, а печаль по дорогому другу, единственному, кому она могла бы поверить свои страхи.
В феврале Екатерина, блистая улыбками, участвовала в масленичных гуляньях. Все видели ее сильно раздавшийся живот, и, отпраздновав начало поста, двор переместился в Гринвич в полной уверенности в том, что дитя родится сразу после Пасхи.
В Гринвиче для меня приготовили комнаты, сделав это в полном соответствии с указаниями Королевской книги, написанной покойной миледи Бофор. Стены увешаны гобеленами, на которых изображены приятные глазу сцены, полы устланы коврами, по ним разбросаны свежие, пахучие травы. Я медлю в дверях, за спиной у меня друзья пьют пряное вино за мое здоровье. Здесь, в этих комнатах мне предстоит исполнить свое предназначение, сослужить службу Англии, выполнить миссию, ради которой я рождена на свет. Глубоко вдохнув, я вхожу. Дверь за мной закрывается. Я не увижу своих друзей: герцога Бэкингема, милого Эдуарда Говарда, моего исповедника и испанского посла — пока не родится мое дитя.
Мои придворные дамы уже здесь. Леди Элизабет Болейн ставит на столик у кровати круглый футлярчик с ароматическими шариками. Сестры герцога Бэкингема, леди Элизабет и леди Анна, пытаются поправить криво висящий гобелен. Мария де Салинас улыбается, стоя у огромной кровати с новыми темными занавесями. Леди Маргарет Пол подвигает туда-сюда колыбельку в ногах кровати, поднимает глаза и улыбается мне, и я вспоминаю, что она сама мать и знает, как лучше.
— Хочу, чтобы вы стали во главе королевских детских, милая леди Маргарет, — неожиданно для самой себя вдруг говорю я, движимая привязанностью к ней и нуждой в совете, исходящем от доброй и многоопытной женщины.
Дамы в удивлении переглядываются. Уж они-то знают, что я, как правило, соблюдаю декор, и все назначения исходят от моего дворецкого после консультаций с десятком персон.
Леди Маргарет улыбается и кивает.
— Я знала, что вы этого захотите, — отвечает она тем же глубоко личным тоном, что и я. — Я на это рассчитывала.
— Без королевского приглашения? — смеется леди Болейн. — Фу, леди Маргарет! Да вы выскочка!
Тут мы все хохочем, потому что мысль о том, что достойнейшая леди Маргарет может искать королевского покровительства, невыразимо смешна.
— Я знаю, что вы будете заботиться о нем как о родном сыне, — шепчу я.
Она берет меня за руку и помогает улечься в постель. Я тяжелая и неуклюжая, и в животе у меня постоянно бьется боль, которую я пытаюсь скрыть.
— Дай-то Бог, — бормочет она.
Проститься со мной приходит Генрих. С разгоряченным лицом, то и дело закусывая губу, он больше похож на мальчика, чем на короля. Я беру его за руки и нежно целую в губы.
— Любовь моя, молись за меня, — говорю я. — Я верю, что все будет хорошо.
— Только роди, и я поеду к Божьей Матери Вальсингамской, возблагодарить ее, — в который раз обещает он. — Я написал в монастырь и посулил им великие щедроты, если они испросят для нас божественного благословения. Теперь они молятся за тебя, любовь моя. Круглые сутки.
— Господь милосерден, — говорю я, вспоминаю мавританского лекаря, который сказал мне, что чрево мое пусто, и прогоняю это воспоминание. — Это моя судьба, желание моей матери и Господня воля.
— Мне так жаль, что твоей матушки нет здесь с нами, — допускает бестактность Генрих, но я не позволяю себе поморщиться.
— И мне, — говорю я. — Но я уверена, она смотрит на нас с небес.
— Могу я что-нибудь для тебя сделать? Принести что-нибудь?
Это смешно, чтобы Генрих, который никогда не знает, где что лежит, бегал сейчас для меня с поручениями, но я не смеюсь.
— У меня есть все, что нужно, — ласково говорю я. — Мои дамы обо мне позаботятся.
Он выпрямляется, очень величественно, и оглядывает их, как войска на плацу.
— Получше служите своей госпоже, — строго говорит он всем и добавляет, обращаясь к леди Маргарет: — Прошу вас, пошлите за мной сразу, как только будут какие-то новости. Днем или ночью! — Засим он целует меня на прощание с большой нежностью и уходит. Дверь за ним закрывается, и я остаюсь одна с моими дамами. Так будет до тех пор, пока я не рожу.
Я рада уединению. Уютная, тихая опочивальня станет моим убежищем, я смогу отдохнуть в обществе милых мне компаньонок. Можно перестать притворяться, играя роль плодовитой и уверенной в себе королевы, и быть собой. Я отстраняю от себя все сомнения, все переживания. Не буду ни о чем думать, перестану волноваться. Буду терпеливо ждать, пока дитя не запросится наружу, и выпущу его в свет без страхов и воплей. Я твердо намерена верить в то, что этот ребенок, переживший свою сестру, будет крепок и здоров. А я, пережившая гибель первой дочери, буду смелой матерью. Возможно, мы вместе преодолеем горе и утрату: это дитя и я.
Я жду. Я жду весь март и прошу слуг снять гобелен, закрывающий окно, чтобы в комнату доносились запахи распускающейся зелени и крики чаек, которые носятся над рекой во время прилива.
Я жду, но ничего не происходит, ни с ребенком, ни со мной. Повитухи спрашивают, болит ли у меня что-нибудь. Я говорю — да, болит, но это тупая боль, к которой я давно притерпелась. Спрашивают, брыкается ли ребенок, но, сказать правду, я плохо понимаю, что они имеют в виду. Они переглядываются и громко, подчеркнуто заявляют, что это хороший знак: спокойный ребенок — сильный ребенок, он, надо полагать, отдыхает.
Я стараюсь забыть о сомнениях, которые гложут меня с самого начала этой второй беременности, так прямо и откровенно отринутой врачом-мусульманином. Я отказываюсь думать о предупреждении, высказанном им с таким сочувствием на лице. Я твердо настроена на лучшее. Однако приходит апрель, по подоконнику стучит дождь, потом лужицы высыхают под солнцем, но по-прежнему ничего не происходит. Мой живот, всю зиму туго обтянутый платьем, в апреле слегка опадает, а потом и еще больше. Я отсылаю всех женщин, оставив одну Марию, расшнуровываю платье, показываю ей живот и спрашиваю, не кажется ли ей, что я теряю в объеме.

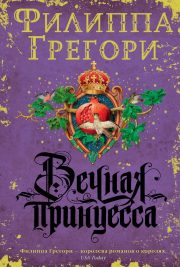
"Вечная принцесса" отзывы
Отзывы читателей о книге "Вечная принцесса". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Вечная принцесса" друзьям в соцсетях.