— Боже мой, Маргарет! — воскликнула она и упала в ее объятия.
— Екатерина! — прижав королеву к себе, выдохнула леди Пол.
— Как мы могли его потерять?
— На все воля Господа. Придется принять это. Придется смириться.
— Но почему?!
— Кто же знает, принцесса, почему одного казнят, а другого милуют? Вы же помните…
И по дрожи, пробежавшей по телу королевы, леди Маргарет поняла, что, конечно, та помнит.
— Никогда не забываю. Ни на день. Но почему?!
— Воля Господа, — повторила леди Маргарет.
— Я этого не перенесу, — тихо-тихо прошептала Екатерина, чтобы другие не слышали, и подняла залитое слезами лицо с плеча подруги.
— Ах, Екатерина! Вынесешь. Научишься выносить, — с бесконечным терпением сказала леди Пол. — Другого не остается. Можно гневаться на судьбу или заливаться слезами, но в конце концов приходится все выносить.
Екатерина медленно вернулась в свое кресло. Леди Маргарет с естественной грацией осталась на коленях, не выпуская рук королевы.
— Вам наново придется учить меня мужеству, — шепнула Екатерина.
— Нет нужды, — покачала головой подруга. — Этому учишься только один раз. Вы уже научились, тогда, в Ладлоу. Вы не из тех женщин, которые ломаются под гнетом скорби. Вы будете скорбеть и продолжать жить, вы снова вернетесь в мир. Будете любить. У вас будет другое дитя, это дитя выживет, и вы научитесь быть счастливой.
— Не верю, — горестно произнесла Екатерина.
— Однако так оно и будет.
Та битва, которой Екатерина ждала всю свою жизнь, произошла, когда она не отошла еще от смерти сына.
От короля Фердинанда пришло письмо.
«Мне выпало возглавить поход против мавров Африки, — писал он. — Само их существование опасно христианству, их набеги угрожают всему Средиземноморью и препятствуют судам, идущим из Греции в Атлантику. Пришли мне своих лучших рыцарей, сын мой, — ты ведь писал мне, что у вас там новый Камелот. Под началом самых храбрых своих полководцев пришли мне самых стойких своих воинов, я поведу их в Африку, и мы, христианские короли, уничтожим королевства неверных».
Усталая, безучастная, она как раз закончила расшифровку письма, когда с теннисного корта пришел Генрих. Он расплылся в улыбке, завидев ее, и тут же его радостное лицо исказилось гримасой вины, как у мальчика, пойманного за запретной забавой. В это предательское мгновение Екатерина поняла: он забыл, что их сын умер. Играл в теннис, выиграл, надо полагать, потом увидел жену, которую еще любил… короче говоря, был вполне счастлив. Радость давалась мужчинам из его семьи так же легко, как печаль — женщинам из ее рода. Сердце ее вдруг сжалось от ненависти, столь сильной, что во рту разлилась горечь. Он способен забыть, пусть даже на мгновение, что их дитя умерло! Сама она этого никогда не забудет. Никогда.
— Пришло письмо от моего отца, — сообщила она, сделав усилие, чтобы голос ее звучал поживее.
— Да? — С очевидной нежностью король взял ее за руку, и она стиснула зубы, чтобы не закричать: «Не прикасайся ко мне!» — С выражениями сочувствия? Утешениями?
Вопиющая неуместность всего, что он сейчас делал и говорил, казалась невыносимой, но Екатерина взяла себя в руки:
— Нет, это не частное письмо. Ты же знаешь, он редко пишет мне отцовские письма. Это известие о том, что предстоит Крестовый поход. Он приглашает наше дворянство собрать полки и пойти с ним на мавров.
— Правда? В самом деле! Вот удача!
— Но не для тебя, — сказала Екатерина, не принимая идеи, что он пойдет на войну, когда у них нет сына. — Это всего лишь военная вылазка. Однако отцу пригодятся английские воины, и, на мой взгляд, их следует послать.
— Еще бы они ему не пригодились! — хмыкнул Генрих и повернулся к своим друзьям, которые толпились поодаль, как напроказившие школьники.
Молодым людям печальная королева была неприятна. Куда больше она нравилась им, когда была королевой турнира, а Генрих был ее рыцарем Верное Сердце.
— Эй! Кто-нибудь хочет на войну с маврами?
Ответом ему был восторженный вопль. Сущие щенки, устало подумала Екатерина.
— Я пойду!
— И я!
— Что ж, покажете им, как умеют воевать англичане! — рассмеялся Генрих. — Расходы я беру на себя!
— Значит, я сообщу отцу, что у нас есть горячие добровольцы, — негромко произнесла Екатерина. — Сейчас же пойду и напишу.
Развернулась и быстрым шагом направилась к лесенке, которая вела в ее апартаменты. Еще одна минута в компании этой молодежи — и она разрыдается. Эти юноши могли бы учить ее сына скакать верхом. Стали бы его советниками, его государственными мужами. Были бы его восприемниками при первом причастии, свидетелями его обручения, крестниками его сыновей. И что же? Все они здесь, смеются, собираются на войну, соперничают, ища похвалы Генриха, как будто ее сына совсем не было, как будто он не умер. Как будто мир не изменился, но Екатерина-то знала, что он уже никогда не будет прежним…
У него были голубые глаза. И крошечные настоящие пальчики.
В итоге этот Крестовый поход так и не состоялся. Английские рыцари прибыли в Кадис, но армада в Святую землю не отплыла, с неверными не сразилась. Оживленно велась переписка. Екатерина переводила супругу письма, в которых король Фердинанд пояснял, что еще не собрал войска, не готов вступить в войну, но однажды в июне пришло очередное послание, и она вошла в кабинет мужа с непривычно взволнованным лицом.
— Отец сообщает нам крайне неприятную новость!
— Что такое? Взгляни-ка, я сам только что получил письмо от английского купца, торгующего в Италии, и ничего не могу понять! Он пишет, что французы находятся в состоянии войны с Папой! — Генрих протянул ей письмо. — Как это возможно?!
— Так и есть. Отец это подтверждает. Он пишет, что Папа потребовал вывода французского войска из Италии и выставил свою папскую армию против французов. Король Людовик объявил в ответ, что Папа ему больше не Папа.
— Да как он посмел? — поразился Генрих.
— Отец пишет, что о Крестовом походе придется пока забыть — нужно помочь Папе. Короля Людовика нельзя допускать в Рим.
— Он, должно быть, спятил, когда решил, что я позволю французам взять Рим! Он что, забыл силу английской армии? Ему что, нужен еще один Азенкур?
— Должна ли я написать отцу, что мы заодно с ним против Франции? Я могу сделать это сейчас же.
Схватив руку жены, он прижал ее к губам. На этот раз Екатерина не отстранилась, как делала все последнее время, и король, притянув ее к себе, обнял за талию.
— Я пойду с тобой и буду смотреть, как ты пишешь, а потом мы поставим рядом две наши подписи, — сказал он. — Пусть твой отец знает, что его испанская дочь и его английский сын всецело его поддерживают. — И добавил: — Благодарение Богу, наши полки уже в Кадисе!
— Да, это… это удачно, — подумав, согласилась Екатерина. — Знаешь, я думаю, мой отец наверняка извлечет какую-нибудь выгоду для Испании из этого обстоятельства, — сказала она, когда они шли в ее комнаты, причем Генрих старался приноровиться к ее шагам. — Он никогда не делает ничего просто так.
— Уж это точно! — хмыкнул Генрих. — Но ты, как всегда, подумаешь о наших интересах. Я доверяю тебе, любовь моя. И ему доверяю. Разве он не единственный отец, который у меня остался?
Мало-помалу, по мере того как отогревалась весенним солнцем земля, я тоже оттаивала. Смириться со смертью сына, конечно, я не могла — и никогда не смирюсь, — но я стала осознавать, что винить в его смерти некого. Он умер в тепле, любви и заботе, как птичка в гнезде, и приходится признать, что мы никогда не поймем, почему это случилось.
Чудовищная боль от потери сына, кажется, растворяется с уходом холодной и мрачной английской зимы. Однажды утром явился шут, сморозил какую-то глупость, и я рассмеялась, и с тем смехом будто бы распахнулась в свет, в жизнь, запертая раньше дверь. Я поняла, что способна смеяться, что могу быть счастлива, что ко мне вернулись чувство юмора и надежда. Даст Бог, я еще рожу другого ребенка и буду любить его с той же всепоглощающей нежностью.
Моя вера в Бога крепка и неизменна, как прежде. Пошатнулась лишь вера в непогрешимость отца и матушки.
Я вспоминаю, как добр был ко мне лекарь-мавр, и не могу не пересмотреть своего отношения к его народу. Никто, кто видел своего врага в таком жалком положении, в каком находилась тогда я, и при этом отнесся к врагу с глубоким и искренним сочувствием, не может назваться варваром. Конечно, он закоренелый еретик, но у него наверняка есть основательные причины придерживаться своих убеждений. И просто необходимо дать ему право верить в то, во что он верит.
Мне б хотелось послать к нему хорошего священника, чтобы тот поборолся за его душу, но сказать, как сказала бы матушка, что он духовно мертв и пригоден только для смерти, я не могу. Он держал меня за руки, когда сообщал свой приговор, и в его глазах я видела нежность, такую же, как у Святой Девы. Я больше не могу считать всех мавров врагами, как раньше. Приходится признать, что они люди, как мы, мужчины и женщины, разные, грешные, верные своей вере так же, как мы — своей.
И это заставляет меня сомневаться в мудрости матушки.
Много лет я провела, вдовая и нищая, потому что законники матушки неправильно составили свадебный контракт. Я была брошена одна-одинешенька в чужой стране, и хотя матушка и звала меня домой, делала это только для виду. Я была не нужна ей в Испании. Она ожесточила ко мне свое сердце и отпустила меня, свою дочь, на волю судьбы.
И наконец, мне пришлось тайно искать хорошего лекаря и принимать его тайно, потому что по ее слову и при ее участии самые ученые люди были изгнаны из христианских стран. Их мудрость она назвала грехом, и остальная Европа последовала ее примеру. Она изгнала из Испании евреев, обладающих мужеством и многими умениями, и мавров со всей их мудростью и дарованиями. Восхищаясь ученостью, она изгнала тех, кого называли людьми Книги. Борясь за справедливость, она вершила беззаконие.
Пока я еще не знаю, куда приведут меня мои размышления. Матушка умерла, поговорить с ней я могу только в своем воображении. Но я знаю, что сама я глубоко изменилась за прошедшие месяцы. Я пришла к выводу, что понимаю мир не так, как она. Я не буду поддерживать Крестовые походы против мавров и против любых иных врагов. Я не буду поддерживать гонений и любых проявлений жестокости к людям на основании цвета их кожи или верований. Я знаю, что моя матушка не безупречна, и больше не верю, что Господь и она — одно. Конечно, я вспоминаю о ней с любовью, но более не боготворю. Судя по всему, я наконец выросла.
Понемногу королева, отойдя от своего горя, начала проявлять интерес к деятельности королевского двора и делам государства. Лондон в те дни как раз обсуждал действия шотландского капера, который атаковал суда английских купцов. Имя капитана капера было на слуху у всех. То был некий Эндрю Бартон, он плавал с верительными письмами короля Якова, не знал милосердия к английским судам, и в лондонских доках поговаривали, что король Яков нарочно выдал Бартону лицензию на судовождение, чтобы тот как мог препятствовал английской морской торговле, словно две страны уже находились в состоянии войны.
— Это надо прекратить, — сказала Екатерина супругу.
— Как он смеет! — кипел тот, имея в виду короля Якова. — Как он смеет бросать мне вызов! Нападает на наши границы, посылает пиратов! Трус и клятвопреступник!
— Да, — согласилась Екатерина. — Однако тут надо обратить внимание на то, что Бартон угрожает не только нашей торговле. Если шотландцы одержат верх на море, они смогут командовать нами и на суше. Мы живем на острове: моря вокруг должны принадлежать Англии, иначе нам не будет покоя.
— Мои корабли наготове, выходим в полдень. Я возьму его в плен, живьем, — придя проститься, пообещал Екатерине адмирал флота Эдуард Говард.
На ее взгляд, он выглядел таким же по-мальчишески юным, как Генрих, но его мужество и дарования сомнений не вызывали. Унаследованное от отца тактическое мастерство он показал, возглавив только что созданный военный флот.
— Если же не смогу взять живым, потоплю его корабль и доставлю негодяя мертвым.
— И это слова христианина! Стыд и позор! — улыбнулась королева, протягивая руку для поцелуя.
Из поклона он поднялся с серьезным выражением лица.

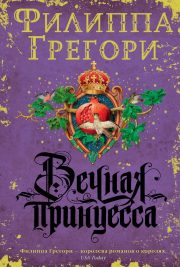
"Вечная принцесса" отзывы
Отзывы читателей о книге "Вечная принцесса". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Вечная принцесса" друзьям в соцсетях.