Вера закончила письмо просьбой не сообщать пока о её решении старшим братьям, пообещав, что напишет им сама, когда дело будет решено официально. Запечатав конверт, она положила его на стол вместе с прочими письмами, которые завтра надлежало отправить на почтовую станцию, погасила свечи и ушла в спальню.
А ночью ей приснился Никита – там, в Москве, в их старом доме в Столешниковом переулке. Они были совсем молоды, чему-то безудержно смеялись, и Вера была крайне удивлена, проснувшись и заметив, что лицо её и подушка – в слезах. Письмо брату дожидалось её в кабинете, и она тем же утром отправила его.
Всю следующую неделю от Команского не было ни слуху ни духу – чему Вера, впрочем, была только рада. Холсты благополучно отбыли в уезд, по поводу жита пока ещё ничего слышно не было, и холодным вечером, привычно прогуливаясь по пустой дубовой аллее, Вера размышляла: может быть, не рассчитывать на помощь Команского, а продать всё прежнему покупщику, пусть и не по такой выгодной цене? Размышлялось, впрочем, плохо. Вечер был сырым и промозглым, голые ветви дубов стучали над головой Веры, сбивая с мыслей, под ногами то и дело попадались твёрдые катышки желудей, на которых легко было поскользнуться. Разумнее всего, конечно, было отправиться домой ужинать, и Вера уже собиралась это сделать, когда из-за поворота аллеи её окликнул незнакомый, очень тихий голос:
– Барыня… Доброго вам вечера.
– Здравствуйте, – машинально ответила Вера, открывая глаза и недоумённо глядя на женскую фигуру, робко стоящую под огромным дубом. Поймав взгляд Веры, женщина низко поклонилась, и княгиня убедилась в том, что не знает её.
– Вы ко мне? Вас кто-то послал? – осведомилась она. – Давайте в таком случае пройдём в дом, и там…
– Ой, нет, барыня, милая, ни в коем разе! – Женщина испуганно всплеснула руками. – Я и так какой день сюда прихожу, чтоб вас одну застать… Всё не случается! Только вот сегодня повезло, и вокруг никого…
– Но кто же вы? – уже с лёгкой тревогой спросила Вера, подходя ближе… И чудом сдержала вздох восхищения. Стоявшая перед ней женщина была очень хороша собой. Ей было явно за тридцать, и кожа её, смуглая, почти оливковая, как у итальянки, уже начала увядать. Но морщин ещё не было видно на этом мягком, тонком, удивительно правильном лице, точёные черты которого заставили Веру вспомнить Рафаэлеву мадонну. Чёрные, очень большие глаза смотрели из-под густого ворса ресниц испуганно – словно красавица вот-вот готова была развернуться и бежать прочь. Тёмно-рыжие, с бронзовым блеском косы лежали на затылке тяжёлым узлом. Простое холстинковое платье было чисто и аккуратно, чёрная шерстяная шаль без рисунка не скрывала великолепной линии плеч. Было очевидно, что это не простая крестьянка, а горничная или управляющая из богатого дома.
– Кто вы? – повторила Вера, сама не замечая, что любуется этим прекрасным, словно вышедшим из-под резца античного мастера лицом. Женщина опустила взгляд.
– Я, изволите видеть, господина Андрея Львовича Команского дворовая… Кухарка его, Глафира.
– Так вас послал пан Команский?
– Боже сохрани! – С лица Глафиры сбежала краска. – Да если Андрей… Господин Команский узнает только… Христом Богом молю, барыня драгоценная, не говорите ему, что я к вам приходила, не то…
– Не беспокойтесь, я ни слова ему не скажу, – поспешно заверила Вера. – И называйте меня, пожалуйста, Верою Николаевной, мне так привычнее.
– Благодарствую… Да и вы уж мне тогда «ты» говорите, мне тоже привычней станет, – вымученно улыбнулась Глафира, и Вера только сейчас заметила, что совсем недавно она плакала.
– Я постараюсь, – согласилась Вера. – Отчего же вы… Ты хотела меня видеть? И почему такие предосторожности? Может быть, всё же пройдём в дом?
– Ой нет, ради Матери Божьей… Меня-то у вас в доме знают, не дай бог, господину Команскому донесут…
– И что же? В чём несчастье? Пан Команский не позволяет своим людям разговаривать с чужими господами? – улыбнулась Вера.
Глафира только покачала головой, и её тёмные глаза снова наполнились слезами.
– Барыня… Вера Николаевна, вы прежде всего меня простите. Не в своё я дело лезу, ещё как не в своё… И коли Андрей узнает, мне вовсе худо может быть, ведь кто я-то такая? Простая баба крепостная, кухарка… А он ведь мне волю давал! Давал, да я-то не взяла! – с неожиданной гордостью сказала она… И тут Вера всё вспомнила.
– Так ты – та самая Глафира? Жена пана Команского? Это правда?
– Кто?! – одними губами переспросила женщина, и в её расширившихся, мокрых от слёз глазах мелькнул ужас. – Я – жена?! Отродясь не было этого, Вера Николаевна! Да как я и помыслить могу… Как и в голову только взять… Наболтали вам, а николи такого не было! Жила с ним, истинно вам говорю, двенадцать лет жила и сейчас живу, но о дерзости этакой и не помышляла отродясь! В том и крест поцеловать могу! Бабы, змеюки, всякое болтают, а я перед всеми честная! Да сохрани меня господь барину в супруги набиваться! Нешто места своего не знаем?!
– У вас ведь есть дети… – медленно сказала Вера, слово за словом вспоминая последний разговор с Протвиной. – Это правда или тоже сплетни?
– Истинная правда! Двое детишек, Григорий и Савушка, обоих Андрей Львович в частный пансион в Смоленске устроил. И они-то не в крепости, нет! Я до конца дней своих Богу благодарна, что всё для них этак хорошо устроилось…
– Но чего же вы хотите от меня? – Вера с тревогой заметила, что её собеседница едва держится на ногах от волнения.
Вдвоём, оглядываясь, как разбойники, они вошли в беседку в глубине аллеи.
Едва оказавшись на почерневшей скамье, Глафира не выдержала и расплакалась. Она плакала тихо, сдавленно, смахивая слёзы углом шали и беспрестанно повторяя: «Ох, грех какой… Ох, сейчас, сейчас, простите, барыня…» Вера не старалась успокоить её, по опыту зная, что от утешений может быть только хуже. Она смотрела через плечо Глафиры на темнеющий сад, на ветви дубов, раскачивающихся над едва заметной в сумерках дорожкой, и машинально стягивала на плечах накидку.
– Вы меня, Христа ради, простите, барыня, что я к вам явиться насмелилась… – Глафира наконец слегка успокоилась и подняла на Веру мокрые глаза. – Видит Бог, я вторую неделю храбрости набираюсь. Да вас ещё одну и не застать… Спасибо, люди добрые рассказали, что вы в этой аллее по вечерам моциён совершаете, так я и решилась… Барыня, голубушка, Андрей Львович ведь вам предложение сделал? Замуж вы за него выходите?
Было заметно, как она старается держаться спокойно. Но в чёрных глазах женщины стояло такое отчаяние, столько смятения было в её стиснутых у груди, перевитых некрасивыми сизыми жилами, растрескавшихся руках, что Вера почувствовала, что у неё самой тоже сжимается сердце.
– Глафира, я не знаю, что тебе сказал Андрей Львович о своих намерениях… Но я не приняла никакого решения. И уж, во всяком случае, не давала своего согласия.
По впалым, смуглым щекам Глафиры снова побежали слёзы.
– Барыня, я ведь николи в жизни к вам бы не пришла, – сорвавшимся на шёпот голосом призналась она. – Потому – кто я есть, чтобы промеж господ встромляться? Я – дело обычное, житейское, у кого из бар этакого-то нету?.. Только люди говорят, что бобовинская барыня молодая – хорошая, добрая… И с людьми всегда милостива, и за три года ни один ейный человек на конюшне дран не был, а при покойном князе-то – ух!.. И Трофиму Зосимову с дочкой вы волю дали, а какая другая бы озаботилась? Я потому лишь и смелости набралась…
– Глафира, ты очень любишь Андрея Львовича? – напрямик, перебив эти бессвязные речи, спросила Вера. – Ты не хочешь, чтобы он женился на мне?
Мгновение Глафира потрясённо молчала: её лицо сделалось из смуглого бледно-серым. Затем шёпотом сказала:
– Да моё ли дело, барыня, хотеть или не хотеть? Андрей Львович и так мне много милостей делал. Хватит с меня и того, что он детей наших с ним своими признал, учиться отправил… Другие-то разве этак сделают? Вы погляньте, у всех соседей незаконные детишки так по двору и шныряют, и кто о них думает? Дворня – она дворня и есть, дело обычное…
Как ни старалась Вера держаться спокойно, гримаса брезгливости скользнула по её лицу, и Глафира испуганно умолкла. Чуть погодя робко заговорила вновь:
– Вы меня, барыня, ради Христа, простите, дуру, ежели я что не так говорю. Но ведь это истинно так, при дедах наших и отцах такое же было, и мы роптать не приучены. Андрей Львович и мне собрался вольную дать да денег… Да письмо какому-то приятелю своему в Бельск, кухарка-то я хорошая…
– Вот как, он уже сказал тебе, что женится?! – поразилась Вера. Глафира собралась ответить, но не смогла: слёзы снова хлынули у неё из глаз.
– Кабы вы, барыня, знали… Кабы только знали… – сбивчивым шёпотом говорила она, силясь унять рыдания и не в силах справиться с собой. – Я ведь и впрямь их любила, Андрея Львовича-то… Истинно любила, а не потому, что они – барин и его воле покоряться должно… Мне и семнадцати не было, когда он меня в девичьей приметил… И сразу же к себе в горницу взял… Молодые они тогда были, озорные… Всё мне стихи читали, про печальную свечу какую-то да про ручьи… Да ещё что-то смешное да этакое срамное, что и не выговорить… Про царя Никиту… Я уж чуть не плачу, говорю ему: Андрюша, да что ж ты, греховодник, мне толкуешь, срам-то какой! Нешто господа этакое сочиняют, нипочём не поверю! А он хохочет, заливается… Вечерами мы с ним на речку ходили, да Андрей Львович меня до самой воды на руках нёс. А в саду-то сколько сиживали, а яблоки собирали… Да что тут… Ведь и грамоте выучил меня, терпенья хватило! Я-то, дура, счастливая бегала, а уж как меня стращали девки-то! Вот, говорили, погоди, остынет к тебе барин, наплачешься! А он не остывает да не остывает… Вот истинный вам крест – чуть не женился на мне!
– Отчего ж не женился? – Вера произвела в уме нехитрый подсчёт. – Ведь в то время отец пана Команского уже умер… Некому было воспротивиться…
– А я-то?! – всплеснула руками Глафира. – Я же и воспротивилась! Да где ж это, барыня, миленькая, видно, чтобы паны на своих кухарках женились? Я и вольную не приняла, а как уж он хотел! Кричал на меня даже, что я дура бестолковая и ничуть его не люблю. Только как же бы я за него пошла, даже если б вольная стала? Что бы прочие господа сказали – здесь, в уезде? Да к нему бы сразу все ездить перестали! Ни в одном дому приличном с этакой женой не приняли бы! А каждый человек – он со своими должен быть, как, не в обиду будь сказано, и прочая живность. Лисы-то с волками не живут и козы с быками… Да я бы ему через месяц наскучила, сослал бы он меня в дальнюю деревню, я там сдуру ещё бы и повесилась – и чего бы путного вышло? Что бы с дитями нашими сталось бы тогда? Нет уж, ни на вольную, ни на свадьбу я согласья не дала. Слишком уж сильно любила его, грешная…
Вера молча, пристально смотрела на неё. Она не улыбалась, но в её молчании Глафира почувствовала какое-то одобрение и поспешно продолжала:
– И николи в жизни я с него никаких слов не брала! Внутри себя всегда знала и готова была, что не навек у нас с ним это… Что рано иль поздно женится на ровне своей… Так что, не подумайте, я не отговаривать вас пришла! Спаси Господь! Кабы вы его любили, как я, – я бы смирилась, бог свидетель, успокоилась бы… И в Бельск бы уехала, в услуженье б поступила и в жизни боле вам на глаза бы не попалась! Да только ж…
– Что – только? – одними губами спросила Вера, поняв по изменившемуся лицу Глафиры, что сейчас будет сказано самое главное. – Ты права, я не люблю пана Команского. Ты пришла, чтоб узнать это? Но…
– Коли не любите – вам с ним житья не будет, – твёрдо и спокойно сказала Глафира. – В том на кресте забожиться могу.
– Отчего? – помедлив, поинтересовалась Вера. – Ведь прочие живут и…
– Знамо дело, живут! Так ведь не с ним же… – Глафира умолкла, явно колеблясь и отчаянно теребя уже вконец перепутавшиеся кисти своей шали. Вера прекратила это бессмысленное занятие, положив руку на её пальцы.
– Глафира, милая, скажи мне всё как есть. Я ведь имею право знать, не так ли? Если ты боишься, я готова дать тебе слово, что пан Команский никогда не узнает ни о нашем разговоре, ни о том, что ты мне рассказала.
– На кресте поклянитесь мне, барыня, – шёпотом сказала Глафира, и в её глазах загорелся странный сухой огонь. – Богородицу в свидетели возьмите, тогда…
Она ещё не успела договорить, а Вера уже вынула из-за ворота платья золотой крестик на цепочке и приложила его к губам.
– Изволь, я клянусь тебе в том, что никогда и никому не расскажу. Такой клятвы достаточно? Если же ты недовольна, то я…
– Запойный грех у него, барыня! – не дослушав, выпалила Глафира, и с её лица снова сбежала вся кровь. – Вот как есть, истинно говорю вам! Никто про то не знает, во всём уезде – ни одна душа живая! Только я да кучер наш, Евстафьич!
– Как?! – растерянно переспросила Вера, готовая услышать что угодно, только не это. – Глафира, полно, что ты такое…

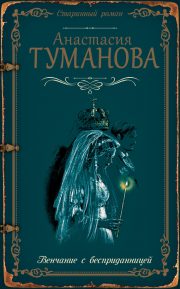
"Венчание с бесприданницей" отзывы
Отзывы читателей о книге "Венчание с бесприданницей". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Венчание с бесприданницей" друзьям в соцсетях.