«Графу Закатову. Москва, Столешников переулок, дом Иверзневых. Дорогой Никита Владимирович! Первыми же словами хочу поблагодарить вас…» – поползли из-под пера изящные тонкие строчки. Уже половина большого листа была покрыта ими, когда Вера вдруг, словно вспомнив о чём-то, медленно опустила перо. Вздохнула. И, решительно вытерев ладонью мокрые глаза, скомкала начатое письмо. Подумав, поднесла его к свече. Дождалась, пока на серебряном подносе вырастет вторая горка серого пепла, встала и подошла к окну. Прислонилась лбом к холодному стеклу и закрыла глаза.
– Господи, как глупо всё вышло… как ненужно… – прошептала она. Затем, взмахнув рукой, словно отбрасывая что-то, быстро отошла от окна, задула свечи и покинула тёмный кабинет.
Над лесом поднималась горбатая сизая туча. Близился вечер. Осенний полуголый осинник натужно шумел. Поля по обе стороны дороги уныло топорщились жнивьём. Поодаль виднелись серые крыши деревни. Широкая дорога, выныривавшая из порыжелого сосняка, пересекала редкую осиновую поросль и тянулась далее через поля.
Из леса выкатился тарантас, запряжённый гнедой лошадкой. На передке сидел нахохленный дед с кнутом, в глубине экипажа дремал закутанный в дорожное пальто седок. Кучер, нахлёстывая лошадь, с тревогой поглядывал на тучу, которая уже закрыла собой полнеба. Поля потемнели. Порыв холодного ветра встопорщил редкие былинки, закрутил над дорогой сухие листья, прилетевшие из леса. Дедок озабоченно взмахнул кнутом, лошадка устало фыркнула… и вдруг встала как вкопанная. Прямо перед ней из вечернего полумрака сотворилась огромная взъерошенная фигура.
– Што ты… Што ты, мил-человек?.. – испуганно закудахтал кучер, взмахивая рукавами. – Поди себе с богом… Вишь, лошадь всполошил!
Но с обочины качнулась к дрожкам ещё одна тень, и дедок, съёжившись, обречённо смолк.
– Да что там у тебя, Тришка? – послышался недовольный сиплый голос из тарантаса. Наружу выглянула мрачная усатая физиономия со встрёпанными бакенбардами и вспухшими ото сна глазами.
– Барин, милый, не полошись, – послышался негромкий, слегка насмешливый голос. – Мы – люди не сильно лихие. Нам от твоей милости много не надо. Давай что есть – и целым уйдёшь.
– Да как ты смеешь!.. – возмущённо начал было тот – и умолк. Разбойник без лишних слов сгрёб его за ворот пальто, и «барин» сразу почувствовал страшную, медвежью силу этой руки.
– Чуешь? – почти весело спросил его разбойник. – Смекай, что будет, ежели всерьёз притисну. Для ча тебе раскатышком-то делаться? Отдавай что есть по-хорошему, за всё благодарны будем!
– Модест Венедиктович, не сердите вы татей, за ради Христа!.. – застонал дедок. – Охти ж, господи, напасть какая… Робята, ведь нету ничего дать-то вам! Какие такие у нас гроши? Из уезда едем, из суда, всё тамошнему крапивному семени ушло…
– Да ну? – Разбойник обшарил тарантас, нахально попросив при этом: – Приподымитесь, барин, несподручно из-под вас тащить… – и извлёк небольшую кожаную шкатулку, забитую бумагами и ассигнациями.
– Не трогай хотя бы документы, свинья! – зарычал барин. – Тебе они всё равно не нужны, это бумаги по имению, закладные…
– Воля твоя. А вот деньги, не обессудь, приберу, – разбойник аккуратно засунул за пазуху пачку ассигнаций. – Они нам поболе твоего надобны. Ого! Антипка! Братка! Да ты поглянь! Я столько и у тятьки после базарного дня не видал!
Тот, кто держал лошадь под уздцы – широкоплечий, кряжистый, со спутанной копной грязных волос, – молча покачал головой – казалось, неодобрительно.
– Чего гривой трясёшь? – усмехнулся его брат. Садящееся солнце неожиданно выстрелило из-за туч низким пронзительным лучом, осветив молодое, загорелое дочерна лицо с чётко выбитыми скулами и зеленоватыми недобрыми глазами. Парень улыбался, но, глядя на эту улыбку, ограбленный господин невольно почувствовал холод на спине.
– Ефимка, ни к чему это, – негромко сказал второй. – Нам столько не надобно. Возьми одну деньгу – и ладно будет. Бога не серди.
Ефим только ухмыльнулся. Короткий шрам на его скуле побелел.
– Не сердить, говоришь?.. Ну-ну… Ладно, барин, поезжай. Спасибо, что с голоду подохнуть не дал.
– Послушай, каналья, имей совесть! – в сердцах выругался господин. – Куда тебе такие деньги, здесь же четыре тысячи! Ты хоть в руках столько держал когда-нибудь?
– Вот теперь и сподобился, подержу! – заржал Ефим, откровенно забавляясь. – Всё, барин, прощевай, не поминай лихом! Трогай, дед! Да живей, туча близко! Намокай тут из-за вас…
Полумёртвый от страха старик взмахнул кнутом над задремавшей было гнедушкой. Та, коротко всхрапнув, дёрнула с места тарантас. Ефим издевательски взмахнул рукой ему вслед, сощурился, вглядываясь во что-то… и вдруг заорал:
– Антип, падай! Падай, оглобля стоеро…
Но из тарантаса, заглушив крик, грянул выстрел. Антип, сдавленно выругавшись, схватился за плечо. Брат бросился к нему:
– Антипка, чего?.. Сильно?! Тьфу, холера на тя, кричал же!.. Ну, барин, пожди! – Он метнулся было вслед за тарантасом, но брат, перестав зажимать рану, здоровой рукой так огрел его по спине, что Ефим с проклятием растянулся на дороге. Тарантас к тому времени уже успел скатиться в ложбинку между холмами и вскоре скрылся в полумгле.
– Уймись ты, леший… – сквозь зубы выругался Антип, глядя на то, как сквозь его пальцы узкими вишнёвыми лентами бежит кровь. – Говорено ж тебе было… У-у, нечисть, чисто огнём жгёт… Живо, братка, уходить надо! Ну как барин с подмогой вернётся? Деньги-то немалые…
– Покажь дырку-то, – мрачно попросил Ефим, поднявшись на ноги. – Экий прыткий барин оказался… Кто ж ведал, что у него пистоль припрятанный? Да стой, не брыкай… сейчас тряпку оторву, замотаю.
Он дёрнул рукав своей старой истрёпанной рубахи. С треском оторвав его, неумело принялся заматывать рану брата. Но сквозь старый холст тут же просочились кровяные полосы.
– Идём до лесу, – обеспокоенно сказал Ефим. – Там Устя посмотрит, она, верно, знает, что делать. Тьфу, чтоб ему кишкой удавиться, барину этому!..
– Пошто ты меня не послушал, дурак? – морщась от боли, спросил Антип. – Говорил же: не хватай деньгу, не бери греха на душу! Вот и огребли…
– О душе моей болеешь? – процедил Ефим, поглядывая на гаснущую в свинцовых полосах искру багрового солнца. – Так поздно уж, братка…
Голос его казался спокойным, но Антип сразу умолк. В молчании братья дошли до кромки леса – уже совсем тёмного, глухо шумящего ветвями, – нырнули под разлапистые ветви старых елей на опушке. Вкрадчиво зашуршали первые капли дождя. Прямо из-под ног у Антипа метнулся прыгучей тенью заяц. Антип невольно дёрнулся в сторону, зацепил раненым плечом низко нависший сук, выругался. Через несколько шагов, догнав Ефима, спросил:
– Для ча ты так сделал-то? Уговаривались ведь: харчей только попросить, а коли уж не дадут, тогда и… Что мы – кромешники какие? Лихим делом на большаке промышляем? Что вот ты теперь с этими деньжищами делать будешь? На что они нам? За них, поди, целую деревню купить можно, ещё и с хутором… Четыре тыщи, шутка ли! Да и барин шум подымет, это уж как пить дать. Тьфу, опять ты, леший, лесу наломал… Не доберёмся мы эдак до Москвы-то! И Танька идти не может, и я теперь подбитый…
Ефим молчал, ожесточённо отбрасывая со своего пути мокрые ветви и ругаясь сквозь зубы, когда упругий лапник всё же хлестал его по лицу. Они шли сквозь лес ещё несколько минут под усиливавшимся дождём. Наконец выбрались на круглую поляну, заросшую иван-чаем и низкой муравой. Среди травы высился шалаш, рядом тлел костёр. Поляна казалась безлюдной, но Ефим негромко присвистнул, и из-за шалаша появилась высокая девушка в изорванном сарафане.
– Слава Богородице – явились… – с облегчением вздохнула она. – Пошто долго-то так, Антип Прокопьич? Мне поблазнилось, что и палил кто-то на дороге! Господи… Антип… да что ты там зажимаешь-то?!
– Да ништо… Шкуру малость царапнуло, – успокаивающе прогудел Антип. – Поглянь, Устя, – может, травку какую надо?
– Так это что ж… – ахнула Устя. – Это в тебя, что ль, выпалили?! У-у, черти, говорила ж я вам! Говорила, что добра не будет! Говорила, что на худое дело тоже талан нужен! А вы что?!
– Жрать-то что будем, дура? – мрачно, сквозь зубы спросил Ефим, который стоял возле углей и с отвращением смотрел на обугленные прутики с нанизанными на них подосиновиками. – Снова грибы эти? С сеном пополам? Нутро всё с них крутит, издохнуть впору…
Устинья ничего не сказала ему. Лишь коротко, сумрачно сверкнула глазами из-под широких, как у мужчины, бровей. Ефим, сделав вид, что не заметил этого взгляда, присел возле углей, взял один прутик и, обжигаясь, начал стаскивать с него почернелые комочки испечённых грибов. Антип коротко, нехотя рассказал о случившемся. Лицо Устиньи потемнело.
– Худо, – коротко сказала она, откидывая за спину небрежно заплетённую косу. – Совсем худо, Антип. Кой вас чёрт попутал?
Антип, украдкой покосившись на неподвижную фигуру брата, пожал плечами – и тут же сморщился от боли.
– Эка вот… Кажись, и не сильно царапнуло – а жгёт, спасу нет!
– Свят господи, да где же не сильно?! – ахнула Устинья, взглянув на набрякшую от крови повязку, и, торопливо поснимав с углей грибные палочки, бросила на тлеющие головешки охапку хвороста. Отсыревшие ветки занялись не скоро, долго шипели, грозясь погаснуть, и Устинья шёпотом приговаривала:
– Ну, живей, миленькие, живей!
Наконец огонь разгорелся, искры взметнулись к нависшим еловым лапам, и Устя ловко и бережно принялась разматывать окровавленную тряпку на плече Антипа. Тот казался спокойным и лишь изредка морщился. Ефим через огонь костра напряжённо следил за ним.
– Ну что там у меня, Устя? – с нарочитым безразличием спросил Антип. – Живой буду?
– Пуля-то, кажись, не вышла, – сквозь зубы ответила девушка. – Вытащить бы. Ефимка, ножа дай.
Ефим, к которому Устинья обратилась впервые, вытащил из-за голенища и молча протянул узкий нож. Устя не глядя взяла его и принялась старательно прокаливать на огне.
– Что ж, терпи, Антип Прокопьич, – чуть погодя сказала она. – Коли вовсе худо будет – кричи, полегчает. Я споренько постараюсь.
– Ништо, – проворчал Антип, основательно усаживаясь у корней старой ели и прислоняясь спиной к её влажному потрескавшемуся стволу. – Не заяц небось, верещать не стану. Ещё Танька напугается… Заснула она у тя, что ль?
– Угу… – Устинья перевела дух, ещё раз попробовала пальцем лезвие ножа – остыло ли? – и решительно поднесла его к ране.
Антип сдержал слово: у него не вырвалось ни стона. Лишь на лбу сизыми жгутами вздулись жилы и выступила бисером испарина на висках. Нахмуренная Устинья, нарочно стараясь не смотреть в лицо парня, быстро орудовала кончиком лезвия. Получалось плохо: видно было, что дело это для лекарки непривычное. Когда в сырую траву возле костра шлёпнулся свинцовый шарик, Устинья с облегчением бросила нож.
– Фу… Всё, кажись. Ну, как ты, Антип Прокопьич? Уж прости, не особо ладно вышло. Не умею я… Пожди, сейчас заново завяжу, травки положу. А утром, как рассвенёт, другой поищу, поздоровше. Не боись, быстро заживёт.
Антип ничего не говорил, тяжело дышал, украдкой вытирая со лба пот. Но когда из шалаша вдруг донёсся слабый стон и голос: «Устя, мужики пришли, што ль?» – он сразу выпрямился и нарочито бодро отозвался:
– Пришли мы, Танька! Ты спи, спи…
Но из шалаша уже выглянула растрёпанная рыжая голова, и худенькая девушка выбралась к костру на четвереньках, волоча за собой обмотанную грязными тряпками ногу.
– Для ча вылезла, кулёма? – сердито спросила её Устинья. – Коль уж заснула – так и спала бы, во сне всё само на человеке лечится. Ну, раз выползла, садись: травку поменяю тебе. Тьфу, навязались вы на душу мне… Эдак мы до второго пришествия в Москву не придём!
– Придём, Устька, – как можно уверенней сказал Антип. – Коль господь сподобит, так и…
Договорить он не смог, потому что рыжая Танька, щурясь сквозь языки пламени, наконец-то разглядела повязку на его плече и немедля принялась охать, всхлипывать и расспрашивать. Антипу пришлось заново рассказать всю историю, и причитания Таньки утроились. Она даже не замечала, как Устинья разматывает тряпки на её ноге и страдальчески морщится, оглядывая длинную, вспухшую, покрытую бляшками гноя и засохшей крови царапину.
– Ну что там, Устя? – вполголоса спросил Антип.
– Кажись, только хужей делается, – так же тихо ответила Устинья. – Вот ведь горе, Антип, не растёт тут мышья травка-то. Я нынче весь лес на карачках обползала – не нашла… А у нас-то дома под каждым забором, как лопухи! Ума не приложу, что теперь делать.
А Танька ничего не слышала:
– О-о-о, да и за какие ж грехи опять напасть на нас приключилася?! Ой, говорила ведь я – дайте лучше я в деревню схожу, ногу свою драную-раздутую там покажу, Христа ради попрошу-у… Ой, да чтоб у того кромешника, кто нас обокрал, шкура наизнанку вывернулась да дождь солёный на неё прошёл! Ой, Антип Прокопьич, да что за нечистый вас на худое дело-то понёс? И когда ж над вами Ефим верховодить-то перестанет?! Ведь вы старшой брат-то!

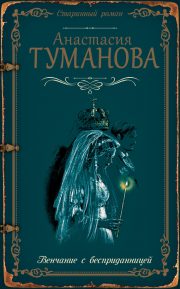
"Венчание с бесприданницей" отзывы
Отзывы читателей о книге "Венчание с бесприданницей". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Венчание с бесприданницей" друзьям в соцсетях.