— Слышал… Вверху тоже так сказывают, — ответил молодой малый и сел тоже на пол на край ковра. — Я было не хотел приходить, да, право, нельзя. Не смог. Одного дня без вас пробыть не могу. Мучение. Хоть поглядеть на вас, и то легче.
— Выдумки все… блажь! — отозвалась она, не глядя на него.
— Да… вам. Понятно… Я для вас что побрякушка какая ради забавы. А вы мне вот то же, что Господь на небеси. Ни единого дня или вечера не могу, говорю я…
— Ну, а когда я тебя брошу… что же ты тогда будешь делать? — спросила Сусанна, зловеще улыбаясь.
— Это не должно, нельзя… это смерть! — глухо ответил он.
— А это, Онисим, непременно будет… Может, даже и скоро… Вот что…
— Ох, полноте… что вы!.. Говорю — смерть. Вы это так, ради шутки… Правда ведь моя?
Сусанна не ответила и думала: как это случилось, что она его выбрала, а не другого? Хоть бы вот молодого князя Никаева. Этот малый умный, даже очень умный, но все-таки простой конторщик. За лицо? Да, пожалуй…
Молодой малый Онисим Гончий, которого неведомо почему вся Высокса звала коротко Анька, не походил ни капли на русского.
Про него шутили, что его мать-покойница была родом цыганка.
Действительно, в красивом темнокожем лице с правильными вполне чертами было, пожалуй, что-то цыганское или вообще южное. Одно только противоречило типу — темно-голубые глаза, которые Анька унаследовал от отца.
Отец его, Абрам Гончий, был пятидесятилетний человек, похожий на молодого старца. Он был сед и бел как лунь, с серебряной большой бородой и с серебряными длинными волосами и совершенно свежим лицом. Это был самый благообразный старик всей Высоксы, смахивавший на священника или вообще на духовное лицо. Даже его вечное спокойствие, медленность в движениях и в речи, казалось, не шли совсем к простому смотрителю на заводе, где от зари до зари считал и принимал он листовое железо.
Единственный сын, которого Абрам, конечно, обожал, был по общественному положению много выше своего отца. Владея искусством — настоящим дарованием — удивительно красиво писать, он был взят в коллегию еще 14 лет от роду для переписки бумаг, отправлявшихся в столицу и к важным лицам.
Будучи умным, но и чрезвычайно энергичным малым, Онисим Гончий, переписывая бумаги, приучал себя писать правильно и вскоре стал делать меньше ошибок, чем его начальство… Кроме того, он постепенно привык к самой процедуре дел в коллегии и в двадцать лет уже мог сам написать дельно и толково любую бумагу, рапорт, промеморию[11] и т. д.
Аникита Ильич не преминул заметить и почерк, и знание дела молодого малого. И однажды, когда Гончему было уже двадцать пять лет, он был переведен из коллегии в контору самого барина наверх. Быть «вверху» значило очень много. Служащие в конторе видали барина всякий день и были у него на виду, и он говорил про них:
— Это — мои!
И эти его личные сотрудники получали большое жалованье и частые награды деньгами и провизией. Главное же заключалось в том, что когда им случалось что-либо учинить, провиниться, то на них неохотно шли жаловаться к барину, зная, что он этих жалоб на «своих» конторщиков не любит.
Рассудит-то справедливо, да жалобщика заприметит.
Теперь Аньке было ровно столько же, что и «барышне», которая негаданно, «как снег на голову», обратила на него свое внимание.
Сусанна, конечно, уж давно лично знала конторщика Гончего, видая его у дяди наверху, и не раз разговаривала с ним. Он ей всегда нравился больше всех других молодых людей Высоксы. И она объясняла это по-своему. Он напоминал ей тех людей, которых она теперь мысленно видела в своем раннем детстве: будучи ребенком, она была окружена такими смуглыми лицами.
Как она сблизилась с конторщиком и могла спокойно видаться по ночам, было делом совершенно простым и безопасным, потому что было хитро обдумано. Все даже знали, что он часто бывает в апартаментах у барышни.
Гончий был любовником 40-летней Анны Фавстовны для всей Высоксы. Над ним подшучивали. Он не отрицал этого. Анна Фавстовна конфузилась при намеках и тоже не отрицала.
Наконец, и до самого барина достигла молва, и он пожурил Аньку и попрекнул:
— Негоже… Ты, гляди, молодец, красавец, почитай, из себя. И этакую дохлую выбрал. Ведь она — соленый огурец. И даже не свежепросольный, а такой, какие к концу зимы подают на стол. Прокислый!
Племяннице Аникита Ильич тоже сказал однажды:
— Что ты своей старой дуре блажить позволяешь! Пятый десяток лет бабе, а она с моим Анькой лобзания завела. Он у нее ведь каждый вечер торчит.
— Что ж такое? Я знаю, — резко ответила Сусанна. — Я его даже не раз после полуночи у нее заставала. Что же? Между ними тринадцать лет разницы. А между нами тридцать пять!
С этого раза Басанов, уязвленный, уже не заговаривал с ней о Гончем, хотя знал, что конторщика видают выходящим от Угрюмовой иногда-в пять и шесть часов утра.
И дерзость сделала опасное дело совершенно простым.
Беда могла придти с другой стороны… Молодой красавец Анька переродился от счастья и восторга. И это в глаза кидалось всем.
— Околдовала его, что ли, пожилая чиновница и барышни-на мамушка? — изумлялись все, глядя на Гончего.
Разумеется, — сам Анька — малый развитый умственно, порядочный на вид, помимо красоты, более приличный, чем многие из приживальщиков дворян, — все-таки никогда и во сне не мог увидеть то, что с ним нежданно приключилось и быстро, вдруг, сразу… Будто молния сверкнула с неба!.. Он очнулся, уже обнимая и целуя… И кого же? Высокскую барышню, «его» обожаемую сожительницу и вдобавок писаную красавицу.
И Анька полюбил до потери разума…
Однако, впереди ему чудилось что-то страшное, ужасное… И он думал, что это будет барин.
— Что же? Или он меня, или я его! — с дрожью в теле говорил он.
Сидя теперь на ковре около лежащей Сусанны, он думал именно об этом. Что, если когда-нибудь Аникита Ильич узнает?! Однако все кое-что сказывают про Алексея Аникитича и барышню, а он, старый, ничего за пять лет не заметил.
И Анька с присущей его натуре смелостью тотчас заговорил об этом. Сусанна не отвечала. Он настаивал и, наконец, прямо спросил:
— Ну, покайтесь: промеж вас с Алексеем Аникитичем ведь было что?
Сусанна подумала, колеблясь, и, наконец, вымолвила резко:
— Ну, было!.. Что ж из того?
— Грех это — все-таки не малый! — качнул головой Анька.
— Никакого греха. Мы дальние… что чужие.
— Все так в Высоксе сказывают. И как это вы на это пошли?!
— Дело простое… Бог знает, как вышло все. Само вышло. Сначала, приехав к дяденьке Аниките Ильичу, я порешила броситься в эту прорубь середи зимы. Да, чистая прорубь… Чтобы под лед подтянуло. Думала одолею… Видела, чуяла, что он железом шитый, что он идол каменный. Да на себя уж очень я понадеялась. Ну, и ошиблась. Он одолел, а не я… Он знай свое говорит… Будь матерью… Тогда сейчас женюсь… и будешь Басановой… «Будет сын от тебя — половина Высоксы — его. Будут сыны — вся Высокса поделится на части, и Алеше пойдет одна часть. А нет у тебя детей — не взыщи, в любовницах останешься… Сказ короткий…»
— Да. И у него одно слово, не два, — заметил Гончий.
— Что же было делать?! И наскучила мне эта старая Кита, да и мысли были, что не я виновата, что не могу матерью стать, а он, старый, виноват… Я тогда Алешку полюбила и всегда скажу, никого я так не любила никогда, да и не полюблю, как его любила года с три… Потом, правда, охладела к нему… Охладела и стала блажить. Так и пошло… И вот пятый год так идет. Теперь что же говорить… Теперь поздно… Я не понимаю, как это можно покаяться и все будто не в зачет тебе будет. Бог простит, люди не простят, а и люди простят, так я-то сама буду знать, что было у меня в жизни, что я творила. И сама я себе этого не прощу… Да и не хочу… Вот что. Так жизнь заладилась, пускай так и идет. Начни я жить сначала, может, была бы самая скромная да тихая, да добрая, какие когда-либо бывают. Вот проживи Алеша, переживи отца, как мы с ним много сотен разов поговаривали, то женился бы он на мне непременно. Я в Алешино слово вот как верю, как люди в Бога не верят… Так нет… Нет! Вступился опять дьявол. Не только не пережил он старого отца, а даже в двадцать лет на тот свет собрался…
— Не жалели! Вина, сказывают, ваша…
— Это — людская выдумка.
— Он от роду хилый был… А тут стал скоро чахнуть еще пуще. Все так-то сказывают.
Сусанна вздохнула грустно и хотела отвечать, но в это мгновение Анна Фавстовна быстро вошла в комнату.
— Что? — встрепенулась Сусанна.
— Прибежал Никишка от молодого барина. Просит он вас к себе и сейчас… Говорит — помирает…
XII
Сусанна вскочила с ковра, румяная от тревоги, но глаза ее горели недобрым огнем… Она боялась, а когда боялась, то злобилась… Теперь она испугалась того, чего ожидала, чего никогда не видала и что внушало ей непреодолимый, суеверный, подавляющий страх… Смерть! Покойник!
Однако она твердым шагом двинулась на половину Алексея и, войдя к нему, волнуясь, задыхаясь, подошла прямо к кровати и нагнулась над лежащим. Он не шевелился… Она позвала. Он не ответил… Она невольно отошла на середину комнаты и стала…
«Неужели?.. Вдруг… Так!» — думалось ей с ужасом.
— Санна, — тихо позвал он, будто простонав.
Она радостно двинулась и снова нагнулась над ним.
— Что ты, дорогой мой? — спросила она.
— Нехорошо мне очень!.. Очень… — прошептал он. — Если любишь… Санна… причаститься. Дошли до…
— Хорошо. Хорошо… Теперь ночь, Алеша. Утром…
— Всегда ты… все свое…
Санна не ответила, села на постель и глубоко вздохнула. Пережитый минутный испуг давил ей грудь.
— Ты все свое… — снова шепнул Алексей.
— Да. Я все свое. Успеется. Ты не помираешь, Алеша… — заговорила она взволнованно. — Ты хвораешь, можешь справиться. И это… это даже, вот как я скажу, — грех, Алеша, и большой.
Он хотел что-то сказать, но она перебила:
— Да. Грех. Здоровые люди говеют и причащаются. Так! А больные… больные не говеют… больные тогда приступают к исповеди и причастию, когда уже совсем умирать приходится. А ты, слава Богу… через месяц встанешь и опять молодцем будешь…
— Ах, Санна… Санна… — с усилием громче заговорил он. — Не понимаешь ты… Я помираю. Я знаю!.. Знаю!.. И я боюсь идти на суд Божий. Надо покаяться и отцу родному, и на духу. Отцу — ты не даешь, боишься… Ну, дай мне хоть на исповеди…
— Алеша, милый. Посуди ты… — страстно заговорила Сусанна. — Останешься ты жив и здоров, то после этакого признания дяденьке что будет? Он тебя проклянет, а меня прогонит… А если б даже так говорить, что ты должен помереть, то я-то… меня-то ты пожалей. За мою всю любовь как ты мне отплатишь?.. Погубленьем.
— Ну, дай только на духу сказать и причастие…
— Хорошо… Поутру.
— Ты все откладываешь… Не хочу я с этим грехом предстать… Господу.
И больной начал снова дышать гораздо тяжелее.
Сусанна опустилась на пол, стала на колени около его изголовья, взяла его изможденную руку, страшно горячую, в свои обе руки и заговорила со слезами в голосе:
— Алеша, дорогой мой. Если и есть грех, то он на мне. На мне одной! Я за него в ответе, а не ты. Я одна! Я всему виною была. Если бы не я, ты бы давно был женат на ком… И все иначе бы пошло. Я тебя смутила. Говорю тебе: я одна виновата. И Господь это видит и праведно рассудит.
— Нет. Оба… и я больше… — прошептал он горько, — мне… мне отец родной…
— Я пред Господом клянусь, — воскликнула Сусанна, — я беру на себя, на свою душу… беру… ты не повинен, мой бедный…
И она прильнула губами к его горячей руке. Ее слезы заструились по ней, но он не чувствовал не только слез, но и поцелуев. От усилий и волнения он ослабел, и сознание снова прервалось, превратясь в бессвязные и тяжкие видения, неведомые образы, чуждые места, непонятные речи…

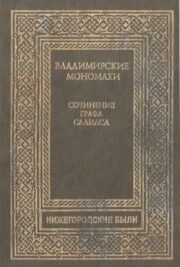
"Владимирские Мономахи" отзывы
Отзывы читателей о книге "Владимирские Мономахи". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Владимирские Мономахи" друзьям в соцсетях.