Аникита Ильич относится к ней, племяннице и сожительнице, уже года с три не так, как бывало… Прежде, бывало, от ее слов: «отпустите меня!» он так пугался, что страстно, на коленях молил не покидать его. А теперь он на эти же слова только рукой машет. Первые годы действительно он был — насколько позволял ему его шестой десяток лет — страстно, чуть не юношески, влюблен в нее, в нее, девушку, которая, по выражению русскому, «всем взяла»: и красива, и умна, и бойка, и всех без исключения очаровывает приветливостью, и, наконец, главное… любит его, несмотря на страшную разницу лет. А разница была в тридцать пять лет. Ей не было полных восемнадцати, когда ему было пятьдесят три года.
В любви пылкой и настоящей женской, женщины к мужчине — а не в дружеской привязанности — она сумела его хитро уверить. И этим был он счастлив. И за это спускал все своей Санне, позволял капризничать, своевольничать и даже помыкать собою.
Теперь, когда ему 63 года, а ей уже под тридцать, расстояние лет между ними как бы уменьшилось. Она все-таки красивая женщина, в которую легко еще влюбиться всякому, но однако она понимает, что прежней восемнадцатилетней весенней прелести в ней, конечно, нет и помину. А он, «старая Кита», вероятно, благодаря обливаниям, пилению кружков и питью зелья калмычки Ешки оставался будто все тот же, что был десять лет назад. Только седина в волосах, только дымка тусклая в глазах, только несколько морщинок около висков прибавилось. Да, разница лет уменьшилась! Теперь, когда наугад ей иные дают все тридцать лет, ему все дают пятьдесят пять… Да не в этом дело. А первые пять лет, она вполне властвовала над ним и знала, видела, что кроме брака с ней, может все, что хочет, заставить делать… Теперь же он стал независимее и незаметно вышел из-под ее полного влияния.
Прежде причину этого она напрасно старалась отгадать… Она думала, что старик, надеясь, что у них будет ребенок, и собираясь на ней жениться, смотрел на нее, как на будущую жену, а, отчаявшись, переменился. Теперь она понимала, что он просто охладел, так как по своей натуре не способен постоянно любить одинаково одну и ту же женщину. Уже через три года сожительства дядя стал снова «поглядывать» на других женщин. А затем вскоре у него начались опять, как было еще при жизни обеих жен, временные увлечения — и простые недельные прихоти и полугодовые привязанности.
Спасибо еще, что он продолжал все-таки быть и в нее влюбленным. Все-таки она была красивее всех этих баб-молодух, горничных и приживалок. А, с другой стороны, она даже выиграла. Он меньше надоедал ей своими ласками, не мешал любить Алешу.
— Да… так, так… — заговорила, наконец, снова Сусанна, будто яснее обсудив свое положение и решаясь…
— Что такое? — спросила Угрюмова.
— Себе говорю… Надо так дело свое повести, чтобы из-за разных затей «Киты» выходило для меня все к лучшему, а не к худшему… Вот он заведет нового хозяина в Высоксе, станет с внучками возиться… Ну, а я стану возиться с его зятьком.
— Как, то-ись? — не поняла Угрюмова.
— А просто… Дарьюшкина мужа приберу к рукам пуще, чем Алешу… Вот тогда и пойдут ягодки…
— Ну, Сусанна Юрьевна… Это… это уж тогда и совсем конец нам будет. Улетим отсюда… Верно.
— Почему же это? Напротив. Новый хозяин за меня станет.
— Да ведь у него жена будет! — перебила Анна Фавстовна. — Аникита Ильич был вдов. Алексей Аникитич был холост… Вы еще не пробовали, не знаете, что такое ревнивая жена… От ревнивицы, сказывается, трус на земле приключиться может.
— Дарьюшка — дурочка, да и малый ребенок… Ну, да вот увидите, Анна Фавстовна. Увидите! — недобрым смехом рассмеялась Сусанна. — Такие ягодки в Высоксе увидят все и даже сам «Кита», что Сатана прибежит тоже глазеть и ахать. А я буду насмехаться и говорить ему: что, брат, чья взяла?
— Аниките-то Ильичу? Да он вас…
— Не Аниките, сударыня… Мне на него будет тогда уже наплевать… А Сатане Сатаниновичу буду в морду смеяться: чья, мол, взяла?!
Анна Фавстовна взялась за голову, затыкая уши…
XVI
Рано утром, еще при восходе солнца, в дверь спальни Басанова постучали… Это было совершенно необычным и редким явлением. Все двери между спальней и коридором, где была канцелярия, в кабинете, в гостиной, в приемной — все всегда бывали заперты на ключ, так как в кабинете были на столе важные бумаги, а главное, в углу стоял большой окованный железом сундук, где менее ста тысяч никогда не лежало…
Со стороны ванной комнатки, коридорчика и прихожей, где стояли козлы с бревном для пиления, наоборот, все оставалось отперто от самой улицы и маленькой лестницы «винтушки» и до спальни. Однако, просто проникнуть и явиться с этой стороны к барину никто не мог, кроме Масеича и Змглода.
Аникита Ильич проснулся от стука в дверь и тотчас догадался, что случилось что-нибудь особенное.
— Войди! — крикнул он и на появление Змглода в дверях прибавил. — Ну, что?
— Пожар на Проволочном, Аникита Ильич, — сказал обер-рунт.
— Велик? Что горит?
Змглод объяснил, что беды большой нет, но он счел долгом доложить. Басанов приказал тотчас скакать туда всем пожарным, а сам обещал приехать днем. Змглод передал барину еще несколько новостей, сделал свой обычный доклад и вышел. Басанов снова заснул и проснулся только, когда в тех же дверях появился Масеич. Было уже семь часов, час вставания.
Аникита Ильич, придя совсем в себя, вспомнило появлении Змглода, о пожаре на заводе, но стал вспоминать, что еще сказал обер-рунт… Что-то еще более неприятное, чем пожар! Не спешное, но неприятное… Он никак не мог вспомнить и стал чувствовать себя не в духе. Тотчас же, по обыкновению, он спросил: что погода?
Масеич, по обычаю, отвечал кратко:
— Тянет.
Старик поднялся с постели совсем не в духе. Ехать на завод по дождю было скучно… Пройдя обливаться и глянув в окошечко ванной комнаты, он увидел на горизонте сизую тучу, но, судя по движению облаков, она шла стороной. Он рассердился и обозвал камердинера «слепой курицей».
— Я, Аникита Ильич, грешный раб Божий Никифор Моисеев, — также сердито отозвался тот, — а не святой угодник, чтобы Господни промыслы знать…
— Да, слепая ты курица. По ветру видать, что мимо пройдет, а что на вас лезет.
— Ладно, вдругорядь совру… Потянет. А я скажу — светлехонько…
— А я тебя побью! — отозвался Басанов раздражительно.
— И бейте. Мне лучше битье, чем попреки! — проворчал Масеич.
— Знаешь, что никогда тебя пальцем не тронул, ну, и буянишь!..
— Потому что несправедливы!.. Что я — в небеса-то бегаю что ли наперед, чтобы справляться да вам правильно докладывать?..
Аникита Ильич ухмыльнулся остроте лакея. Вообще единственный человек из холопов, разговаривавший с Басановым вольно, иногда даже грубо, был Масеич… Он уступал в резкости и прямоте своего обращения с Аникитой Ильичом только одной «барышне».
Все знали в Высоксе и говорили:
— Только барышня да Масеич могут его горошить.
Действительно, если камердинер изредка, то Сусанна зачастую так отвечала старику, что иногда можно было и «огорошить» всякого.
Однажды Масеич, сильно рассердясь за что-то, сказал Басанову:
— Помирать вам пора, вот что!
— Ошалел ты что ли? — изумился барин с неприятным чувством на душе и за спиной.
— Стареть вы стали. Бредить начали!
— А ты молодеешь, что ли?
— Я не барин, а хам, — объяснил Масеич глубокомысленно. — Нам годов не полагается и никаких не бывает. Что двадцать, что шестьдесят — все равно скачи и швыряйся по барскому указу.
Однажды Сусанна тоже хватила, сказав дядюшке со смехом:
— А ведь мучительство — это иметь любовное дело со старым человеком. Всякий старик псой пахнуть начинает.
— Спасибо, моя прелесть. Нижайший тебе за такую ласковость поклон! — ответил только Басанов.
Но, разумеется, Сусанна тотчас ловко прибавила объяснение:
— Я не про себя… и не про вас… Может, я именно и люблю песий-то запах? Вы что знаете?.. Да потом, я особая такая уродилась. Мне молодые противны… Редко, редко какой приглянется. Да и опять, молодой может постареть, подурнеть… А уж такой то, как вы, без перемены… Вы и в гробу страшнее не будете.
И Аникита Ильич, когда любимец-камердинер или любимица-сожительница так его «горошили», иногда весело смеялся, иногда и кисло…
Басанов, говоря Масеичу, что он никогда его пальцем не тронул, говорил правду. Хотя он «собственноручное никогда никого не наказывал, считая это для себя унизительным, но лакея он даже никогда не наказал простым сидением в «холодной» при полиции, не только розгами. Напротив, он щедро одаривал любимца, у которою был свой собственный домик, каменный с мезонином и садом, подаренный барином.
Камердинер был «Масеичем» и простым, хотя и вольным, дворовым только для Аникиты Ильича; но для всех остальных он был Никифор Масеевич, важная особа, гораздо важнее коллежского правителя Барабанова, не говоря уже о других вроде главного конторщика Пастухова. Многие, им подобные, сменялись и «улетали» по одному слову разгневанного барина. А Никифор Шлыков был уже 30 лет главным «камердином» и любимцем.
Но главное заключалось в том, что когда нужно было замолвить словечко за кого-нибудь, когда нужно было положить гнев на милость или чем пожаловать, или простить, или дело обернуть и в настоящем виде барину представить, то все, кто мог, шли к Никифору Масеичу.
Он — говорили все — знает на барина «такое слово». И, понятно, не колдовством берет, а повадкой… И барин его слушает и слушается.
Разумеется, часто шли в Высоксе и к той особе, которая значила в сто раз больше, чем Масеич, — к «барышне».
Но до барышни было дальше, и ей нельзя было обещать «магарыч». А Масеич не гнушался и за оказанную услугу брал, что по карману давали ему.
У Масеича была целая семья. Жена его, уже пожилая, не сходила с постели и болела, хотя неведомо чем, один день жалуясь на ноги, другой день на руки, на спину или на живот. Старший сын Никита служил не только молодому барину, но и старому, в случае болезни заменяя отца. Дочь его не считалась даже дворовой, а была полубарышней и бывала часто, как ровня, в гостях у барышни Дарьи Аникитишны. Кроме того, было еще человек пять детей всех возрастов, которые ничего не делали и были все очень избалованы отцом.
Масеич был, конечно, привязан к барину, но вместе с тем он был человек странный, непроницаемый… Недаром Басанов знал что-то особое про прежнего донского казака. Однако и все обитатели Высоксы чуяли в нем человека темного происхождения, лукавого, двуличного, очень корыстолюбивого, даже жадного. Приятелей у него совсем не было. Кого Масеич сам любит или не любит, было совершенно неизвестно.
Была, однако, в Высоксе одна личность, которую Масеич ненавидел, готов бы был если не собственными руками придушить, то выдать с головой всякому головорезу. А между тем и этого никто не знал, даже и предполагать не мог. И сама эта личность не знала этого и очень бы удивилась, если бы узнала.
Личность эта была — Сусанна Юрьевна.
Облившись холодной водой, отпилив один кружок, Аникита Ильич вошел в кабинет и, принявшись за обычное свое питье, вспомнил сразу о ночном докладе Змглода.
Обер-рунт доложил нечто про парня Сеньку Лопоухого, что было, по его убеждению, для барина, пожалуй, важнее пожара. Во дворе оказался опять один болтун конюх, болтавший снова «разное неродное» про питье Аникиты Ильича. Опять появились «неподобные» разговоры, что калмычкино снадобье — турецкая «буза», а кто ею набузуется, тому «подавай не одну, а сто жен».
Аникита Ильич тотчас передал все Масеичу и приказал ему распорядиться насчет суда болтуна и расправы. Приготовить графин с молоком, самому снести записку доктору Вениусу, а что тот даст — всыпать в молоко.
Затем, уже в добром расположении духа, Басанов, напившись чаю, велел гнать всех просителей, а конторщикам обождать с докладами. У него было дело важнее.
Аникита Ильич решил идти объясниться с дочерью.
Когда Басанов, пройдя весь дом, явился в комнатах девушки-подростка, Дарьюшка, сильно смутившись, подошла, поцеловала у отца руку, а затем робко подставила голову… Отец нагнулся и поцеловал дочь в лоб, а затем в тысячный или в миллионный раз в жизни проговорил:
— Ох, мала ты… И не растешь. И в кого это?.. Мать покойница была особа с ростом. Я не маленький. А ты вот макарьевского пригона. В князя-деда, что ли?
Затем старик сел и задумался. Он приходил к дочери очень редко и когда являлся, то всегда по поводу чего-либо особенного.
Дарьюшка видала отца поутру, проходя наверх во время его завтрака на минуту, чтобы только поздороваться. Затем она видала его за обедом и иногда, ввечеру, когда Аникита Ильич приказывал осветить все гостиные и всем быть в сборе… Это называлось старым словом «ассамблея».

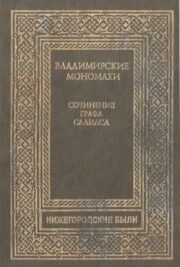
"Владимирские Мономахи" отзывы
Отзывы читателей о книге "Владимирские Мономахи". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Владимирские Мономахи" друзьям в соцсетях.