Дмитрий заметил в юном князе какую-то сухость в обращении, удивился, а потом догадался. «Эх, голубчик, — подумал он. — Не стал бы я право, отбивать у тебя твою карлицу, если бы вот «она» одно словечко сказала…»
«Она» была, конечно, Сусанна.
И Дмитрий сам был озадачен собственными помыслами и ощущениями. Не минуло еще двух суток, что он был в Высоксе, только три раза беседовал он с Сусанной и уже очутился в полной ее власти.
«Что за притча?! — тревожно спрашивал он сам себя. — Уж больно скоро она меня окрутила!»
И трудно было бы решить, что именно было причиной…
Басанов, Андрей Иванович, и затем пожилая ревнивица-сожительница, несколько лет отстранявшие молодого человека от всех женщин, были что ль виновны? Не только красавиц писаных, но и просто молодых женщин видал он только издали и о чарах кокетства понятия не имел.
Или же Сусанна Юрьевна была и впрямь, как выразился про нее доктор Вениус, «жемчужина в навозе»? Недаром же петербургский баловень судьбы граф Мамонин влюбился в нее когда-то и, если бы она не сдалась опрометчиво, то может быть, и женился бы на ней. А здесь, в Высоксе, кто мог сказать ей: «Что она? Какая ей цена?» Побывай она в столицах и в высшем обществе, то, быть может, сама бы узнала правду и ахнула… Ахнула бы так же, как «Царевна Красота» в сказке, когда увидела в ручье диво дивное а затем узнала, что диво это — она же!
Разумеется, иногда подобные мысли приходили в голову Сусанны. Изредка гости в Высоксе укрепляли в ней убеждение, что она жемчужина, зарытая в землю, затерянная, видимая и оцениваемая людьми… одной Высоксы.
Один гостивший у них моряк, приезжавший с каменным заказом, человек еще молодой, но путешествовавший кругом света, уверял ее, что на его взгляд, она самая красивая женщина из всех, каких он видел… И он говорил это просто, спокойно, холодно… Он же сказал, что она «подобна лицом и повадкою баядеркам». А что такое «баядерка», он разъяснил туманно…
Дмитрий теперь находил тоже, что в Сусанне есть что-то особенное, неуловимое и невыразимое, помимо красоты. Он находил и в лице ее, и во всем теле ту диковинную особенность, что она кажется всегда не то сонной, не то усталой, не то обленившейся… пока не глянешь ей в глаза!.. В чудных глазах горит такой огонь, пышет такое пламя, что эта лень всего тела только пуще дивит, но колдует, чарует, манит…
И это было верно…
Высокая, стройная, но немного узкая в плечах, Санна двигалась и ходила медленно, плавно, но слегка раскачиваясь, будто от лени или устали. Она никогда не садилась, как все, а бессильно опускалась, опираясь полулежа на стол или мебель, или опрокидывалась на спинке сиденья как расслабленная. Но взор при этом горел, вспыхивал, сверкал… А если на мгновение взор потухал, когда она глубоко задумывалась, то еще ярче и пламеннее зажигаясь, опять жег и человека, говоря ему… говоря то, чего словами не передать!.. И теперь каждый раз, что Сусанна, полулежа в кресле или на диване, взглядывала так ка Дмитрия, он начинал волноваться и мысленно повторял:
«Что это? Мурашки по спине бегают от нее!»
Иногда же он будто читал в ее глазах так ясно, как если б она сама говорила:
«Как знаешь… За тобой дело…»
VI
Коллежский правитель выразился про первый день пребывания Дмитрия Басанова в Высоксе, что день прошел «турманом», но он оказался прав и по отношению к последующим дням. Однако это было правдой в ином смысле…
Первый день прошел просто весело и радостно. Все были оживлены появлением молодого родственника и однофамильца барина, все почуяли, что он привез с собой нечто хорошее и важное, долженствующее осуществиться вскоре. Но прошло более недели, и «турман» или волнение в доме и семье барской было иное… Барин, по замечанию всех, был чем-то озабочен. Барышня стала тоже тревожна или не в добром расположении духа.
Диковиннее всех была маленькая барышня; она последовала примеру своей приятельницы: лицо ее изменилось слегка, и глаза были заплаканы. На удивленье и вопросы она ответила то же, что и Аллинька:
— Зубы болят…
Аникита Ильич чуть не ахнул и рассердился.
— Ну, и ты и Алла… Обеим скажу: чтобы живо это проходило… зубы-то… а то я разгневаюсь…
Но если старик отлично знал, отчего молодая Ильева ходит с опухшим от слез лицом, то слезы или печаль дочери, нежданная, как раз к приезду жениха, были ему совершенно непонятны и необъяснимы.
Он не знал, конечно, того, чего и никто в Высоксе: ни единая душа, кроме Матвеевны, не знала. А именно то простое обстоятельство, что соседи по жительству и друзья с детства Дарьюшка и Давыд Никаев были теперь уже не друзья, а нечто иное… Они побожились и жить, и умереть вместе… Теперь молодой князь, скрытный, но пылкий, ввиду приезда Дмитрия и слухов в доме, очевидно верных и правдивых, уже начал звать Дарьюшку идти топиться в озеро. Но девушке это казалось очень мудреным. Она предпочитала плакать по ночам в постели: но однако только до рассвета… Затем она крепко и сладко спала, а днем только вздыхала…
Глядя на красивого гусара, в особенности за столом, когда он разговаривал с отцом или Сусанной, она всячески старалась найти, что он похож на Кощея Бессмертного или на Юру-Горбача, или на Соловья-Разбойника. И никак не могла! Как ни старалась девушка себя убедить, что нежданно явившийся суженый — урод, злюка и идол, глаза ее видели иное, а тайный невольный помысел докладывал ей:
«Всем взял!.. Не будь бедный Давыдушка, то…».
Да, не будь князь Давыд двоюродный брат по матери, с которым она давным-давно ежедневно целуется, да не так, как было в детстве, а на иной лад, то, конечно, этот гусар показался бы ей много красивее всех мужчин, каких она когда-либо видала.
Аникита Ильич возился с новой неотступной мыслью… Что именно такое заметил он в своем обер-рунте, когда тот глядел через стол на его новую юную наложницу? Старик видел, явно видел, что черный «турка» пожирал глазами златоволосую Аллу. Когда на другой день он ввечеру заговорил с Аллой у себя наверху о Змглоде, девушка смутилась, а затем призналась, что она давно любит Змглода больше всех в Высоксе, что они уже пять лет первые друзья.
«Пять лет» и «первые друзья» несколько успокоили Аникиту Ильича, притом разум его окончательно отказывался допустить, чтобы девушка, какою была Алла, могла прельститься, во-первых, хамом, во-вторых, иноземцем вроде «Турка», в-третьих, черномазым уродом.
— Ведь он дурен, как черт! — сказал Аникита Ильич.
— Да. Правда… Куда дурен! Страсть! — согласилась Алла с искренностью в голосе… И хотя она тотчас же прибавила: «А мне милее всех прочих!», но прибавила это про себя, а, конечно, не Аниките Ильичу.
Однако, когда он потребовал, чтобы девушка не «болталась» со Змглодом, так как она продолжала гулять с ним ежедневно по саду в сумерки, то Алла опечалилась.
— Ведь мы этак уж давно… — сказала она. — Я еще совсем маленькой за ним бегала, когда он дозором обходил…
— Да не хочу я этого… и конец! — рассердился Аникита Ильич.
— Слушаю-с, — отозвалась Алла покорно.
Но в следующий раз, явившись по винтушке наверх, Алла показалась старику еще печальнее. И Аникита Ильич стал пуще неспокоен духом.
«Чем черт не шутит, — думалось ему. — Она — совсем юродивая, попросту сказать — дура петая. Такой дуре и Турка чумазый может приглянуться». И старик решил пытать самого Змглода и из него «выцарапать» правду сущую, хотя он сознавал, что обер-рунт настолько умен и лукав сам, что одолеть его хитростью мудрено. Однако, собираясь заговорить со Змглодом об Алле и их дружбе, Аникита Ильич все откладывал. Он будто чуял, что узнает что-нибудь такое, из-за чего придется действовать решительно и круто… И еще хуже будет!
— Чисто блоха, — ворчал он, думая об Алле, — почивать тебе не дает, а найти и словить не можешь…
Действительно, с кем и с чем ни справлялся Аникита Ильич, а с молоденькой девушкой сладу не было.
Сусанну более чем когда-либо беспокоил Анька Гончий. К себе она его не пускала, но при случайных встречах он дерзко смотрел ей в лицо или первый заговаривал… Иногда же он казался ей горюющим, будто пришибленным и жалким.
Ей приходило на ум призвать его, усовестить…
Однажды, вечером, когда Сусанна была у себя и по обыкновению лежала на ковре, явилась Угрюмова и, объяснив, что Гончий у нее, стала просить барышню принять его хоть на минуту, хоть из жалости, так как он «на себя не похож».
Сусанна колебалась несколько мгновений и согласилась.
Анька, впущенный Угрюмовой, появился на пороге и молча стал. Он только украдкой взглянул на Сусанну и, опустив глаза, стал мять свою шапку, которую держал обеими опущенными руками.
— Ну? Что тебе? — вымолвила она холодно.
— Я, барышня… к вам… Я… — начал Анька глухим, сиповатым голосом, и вдруг смолк.
— Ну, говори.
— Я к вам… — повторил он, косясь на Угрюмову.
— Ну? Вижу!.. — резко сказала Сусанна. — Говори, что тебе от меня нужно? Анна Фавстовна, выйдите, — прибавила она.
Когда Угрюмова затворила за собой дверь, Гончий заговорил тихо:
— Сусанна Юрьевна… так нельзя… Вот Христос Бог — так нельзя. Помилосердуйте.
— Чего ты хочешь? — мягче произнесла Сусанна.
— Я хочу… Я вот с той самой поры не сплю, не ем, не работаю… с той поры…
— С какой поры?
— А вот, сами знаете… За что вы так?.. Зачем вы меня загубливаете!.. — проговорил он рвущимся голосом. — Жил я ничего, ни хорошо, ни плохо… Вы меня неведомо за что облюбили. Я ума решился от благополучия… И вот опять, ни за что, ни про что, вы отступились… не позволяете даже придти поглядеть на вас. Что же мне делать теперь? Удавиться! Утопиться!.. Не хочу. Не могу. Не таков я уродился. Что же мне делать? Скажите. Рассудите сами!
Он смолк. Сусанна молчала тоже.
— Что же? Сказывайте! — вымолвил он, наконец, полушепотом.
— Изволь. Я тебе скажу, — заговорила Сусанна с горделивым оттенком в голосе. — Будь счастлив тем, что приключилось, и удовольствуйся… и больше не прискучивай мне. Не хочу я — и конец. Прошло у меня, ну, и…
— Прошло?
— Да.
— Совсем, стало быть? Прежнему промеж нас не бывать? — глухо проговорил Анька.
— Нет.
— Николи, то-ись, в жизни?!
— Нет, говорю. Конец и полно… не хочу.
— Теперь Файка эта… хохол? — злобно прошептал он.
— Это не твоя забота! — вспыхнула Сусанна.
— Как не моя?
— Так. Не твоего ума дело! Да к тому же я тебе не жена. Да, наконец того, я — барышня, дворянка, племянница Ани-киты Ильича, а ты — что?
— Прежде бы так-то было сказывать, — резко выговорил Анька. — А теперь нельзя! Теперь для меня барышни нету… Есть, аль была, моя полюбовница… А теперь бросила и за хохла Тараса принялась… Ну, вот я и помешаю… я не допущу. Я помешаю.
— Как это ты помешаешь?.. — вдруг едко рассмеялась самолюбивая красавица, презрительно глядя на Гончего.
— Как… Грех будет! Я не могу. Что же? Я не могу… помешаю… — бормотал он.
— Как, тебя спрашивают?
— Ножом.
— Что? Что!!
— Ножом, говорю.
— Да что ты, взбесился, что ли? — воскликнула она, невольно подымаясь и садясь на ковре. — Право, ты разума решился… совсем…
— Да. Что ж? Решишься… — прошептал он будто себе.
— Да ведь мне одно слово Змглоду сказать, и знаешь ли ты что с тобой будет?
— Знаю, но не дамся. Я не таковский. Я себя не пожалею. А потому и всем плохо станет. И Денису Ивановичу, и Файке этому, и вам самим…
— Как ты смеешь! — рассердилась наконец Сусанна.
— Я к Аниките Ильичу пойду! В ноги брошусь… Так и так, мол, а все — сущая правда… Вот как… перед Богом.
— A-а?.. Вот что… да-а… — протяжно проговорила она. — Ножом?.. В ноги к Аниките Ильичу?.. Хорошо… Ну, что же… действуй. Ступай.
Наступило молчание.
— Ступай, тебе говорят! — уже гневно произнесла Сусанна.
— Барышня… ради Господа Бога…
— Ступай. Уходи. Слышишь? Иди вон!..
— Барышня!! — отчаянно воскликнул Анька и, казалось, он готов был зарыдать.
— Анна Фавстовна! — кликнула Сусанна…
И, поднявшись с ковра, она двинулась к двери и через голову Гончего крикнула громче:
— Анна Фавстовна…
Угрюмова появилась за спиной молодого малого.
— Выведите его…
— Барышня! — вскрикнул Анька. — Помилуй Бог, что будет!
— Пошел вон!! Анна Фавстовна! Оглохли вы! — закричала Сусанна вне себя. — Вон!! Гоните нахала…
Анька сорвался с места и бросился вон к двери, как если бы вдруг испугался чего… Сам себя испугался он!

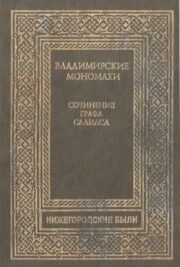
"Владимирские Мономахи" отзывы
Отзывы читателей о книге "Владимирские Мономахи". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Владимирские Мономахи" друзьям в соцсетях.