И она будто поняла сразу все, поняла, что это пробуждение от долгого сна в виде любви и печали… Это? Теперь? Действительность? Теперь лютый враг, — около нее, жив, невредим и явился, конечно, поквитаться…
Все мутилось в голове ее, бег перешел в шаг… Ноги немели, а в глазах темнело.
И в первый раз в жизни Сусанна Юрьевна лишилась сознания… Она упала среди дорожки без чувств, зная, чуя, что ее последний час настал.
«Зарежет… А если б знал…» — была ее последняя смутная мысль.
Когда она очнулась и пришла окончательно в себя, то увидела над собой грустное, бледное лицо. И она опять вскрикнула робко, замирая…
— Не опасайтесь. Я вас не трону…
Это говорил он, Анька… Говорил едва слышно, но горькое чувство ясно прозвучало в словах. Он стоял на коленях около нее, и в его ярко горящих глазах блестели слезы.
— Анька! Аня! Аня! — дико вдруг закричала Сусанна и, безумным порывом обхватив его шею, она прижалась к нему и вся дрожащая, трепетная, целовала его в лицо.
— Что это? — услыхала она. — Помилуй Бог! Что же это?
— Ты жив? Ты жив! — шептала она, как бы не сознавая, что случилось, кто с ней и что с ней самой.
— Сусанна Юрьевна! Да что же это?.. — дико закричал он. — Или боитесь? Лукавите?! Ради Господа Бога! Говорю, не трону вас… Не лукавьте!..
— Аня. Люблю я тебя… Измучилась! Истерзалась! Думала — умер… а ты…
И страшное рыданье вдруг огласило сад. Оно больше слов и поцелуев сказали всю правду.
Гончий поднял ее с земли, обнял, довел до скамьи и, усадив, сел рядом.
— Господи! Да что же это! Помереть можно… — глухо проговорил он.
XV
В тот же день, поздно вечером, среди полной темноты от безлунного неба и нависших облаков, случилось не только нежданное, но совершенно невероятное. Если бы Высокса, вся от мала до велика, знала это, то оно показалось бы ей еще невероятнее, чем загадочный выстрел в молодого барина. Даже сами виновники невероятного приключения сами себе не верили. Им самим казалось мгновениями, что действительность есть, собственно, сновидение, если не колдовство.
Около десяти часов Гончий приблизился к дому, завернул за угол и на опрос дежурного рунта ответил: «Кострома!». Затем он отворил дверь и стал ощупью подниматься по железной лестнице. Он настолько был взволнован, что раза два остановился и глубоко вздохнул.
Винтушка, по которой он шел первый раз в жизни, но о которой, конечно, не раз слыхал еще при старом барине, показалась ему бесконечно длинной. Наконец, наверху из-под двери мелькнул свет… Он остановился перед дверью и простоял несколько мгновений. То же соображение или подозрение, что мучило его весь день, снова явилось в нем. Неужели же это западня? Неужели она прикажет его сейчас злобно и предательски умертвить у себя в комнатах и среди ночи скрыть где-нибудь мертвое тело?
«Время есть еще, — думалось ему, — стоит только, не отворяя этой двери, снова спуститься обратно и бежать от лиходейки лукавой и злой».
И снова началась в нем все та же нравственная борьба. Он снова начал уверять себя, что Сусанна Юрьевна не лукавит, что просто в ее душе случился какой-то для него непостижимый переворот. Не может быть, чтобы жажда мести была в ней настолько сильна, что она после всего того, чему уже подвергла его, хотела бы теперь окончательно стереть с лица земли.
И невольно приходило на ум, что хотя подозрение это ни на чем не основанно, однако подобное в таком непреклонном человеке, как Сусанна Юрьевна: дело возможное.
Но вдруг он вспомнил свое существование за восемь лет, вспомнил, как тянуло его сюда, в Высоксу и к ней, чтобы только хотя поглядеть на нее…
И он вдруг, будто озлобившись, решил, что подобного существования и жалеть нечего.
«Ну, погибать! — чуть не вымолвил он вслух. — И пускай! Один конец!» Он двинулся, отворил дверь и вошел в небольшую комнату. В соседней тотчас же раздались легкие шаги и шуршание женского платья. Сусанна появилась на пороге, молча подошла к нему вплотную, взяла его за руку и провела в свою гостиную. Усадив его, она тотчас глянула на его руку и выговорила с чувством:
— Бедняга! Весь день я думала об этом. Если бы можно было вернуть, похерить это содеянное? Чего бы я ни дала теперь! Какие диковинные дела творятся на белом свете! Вот там от Угрюмовой из окошка смотрела я на тебя. Было время одуматься, не злодействовать!.. И опять скажу, как уже говорила, что тогда уже, глядя на тебя у столба во мне что-то такое творилось непонятное… надвигалось то, что теперь… Но если все мне и теперь совсем непонятно, то тогда я еще пуще дивилась. Да, если бы можно было вернуть!
Гончий, теперь только поверивший окончательно, что она не лукавит, восторженно глядел на нее.
Нет, не надо, Сусанна Юрьевна!.. — воскликнул он. — Если сто раз еще такое должно бы приключиться, я и сто раз пойду на это. И скажу: давай Бог, тем лучше!..
Она удивилась и вымолвила:
— Что ты, Бог с тобой!
— Верно. Тем лучше.
— Почему же?
— Если бы всего этого не приключилось, то я бы здесь тоже теперь не сидел. Без всего, через что вы заставили меня пройти, в вас бы этой перемены не приключилось. Нет, слава Тебе, Господи! Был я когда-то счастлив на свете, потом изнывал и помирал от горя и тоски. А теперь не знаю сам, что я такое и что такое кругом меня. Сдается иной раз, что я ума решился. А то кажется, что все это сном обернется.
— Ну, вот, вот! — воскликнула Сусанна, улыбаясь. — И мне все кажется, что это сон! А в Высоксе, когда узнается, прямо скажут, что это наваждение! Скажут, что ты колдун.
— Что же, по правде сказать, коли не я сам колдун, — задумчиво отозвался Гончий, — то все-таки в этом деле какое-то колдовство есть. Таковое, как вот теперь между нами, вряд ли когда на свете бывало! Никогда я о таковом не слыхал! Любовь — так любовь, а злоба — так ненавистничество и заклятая вражда. А мы с вами вон что!.. И уразуметь не под силу!
И Гончий развел руками. При этом движении Сусанна снова поглядела на его обвязанную руку и помолчав несколько мгновений, выговорила:
— Вон мое наказание будет! Всегда буду я глядеть на эту твою руку, и всегда будет мне сердце щемить. Будет всегда наказанием!
Гончий вдруг как-то встрепенулся и вымолвил с чувством:
— Всегда ли, Сусанна Юрьевна?..
— Что ты хочешь сказать?
— Всегда ли? Надолго ли? Ведь это старое наше по-новому опять недолговечно… Пройдет полгода, ну скажем, год, и опять вы меня оттолкнете. Но я на это так и иду. И во второй раз я не буду безумствовать! Я сочту уже великим счастьем, что мне можно будет оставаться в Высоксе и хотя бы всякий день видеть вас, глядеть на вас…
И взгляд ярких и красивых глаз Аньки говорили еще больше, нежели чувство, которым звучало каждое слово. Сусанна смотрела ему в глаза и сравнивала… Никто никогда так не смотрел на нее, как он, Анька.
«Да, правда, — мысленно проговорила она, — он один настоящий человек. Все остальные около него кажутся какими-то куклами».
Она начала расспрашивать Гончего, как прожил он эти восемь лет, входя в малейшие подробности. Потом она снова, хотя узнала все утром в саду, расспросила его, как лечился он у знахарки Ешки и как баба-колдунья выходила его, поставила на ноги не хуже ученого доктора.
И узнав, снова спрашивала то же… И на все лады по два, по три раза рассказывал он все, что делал за восемь лет, за что он брался, как мучился, бросая одно дело за другим, и как он жил только одним — надеждой побывать в Высоксе и видеть ее мельком, издали, хотя бы на одно мгновение.
Пока он говорил, Сусанна внимательнее приглядывалась к нему. Он, действительно, сильно изменился… Тогда он казался моложе своих лет, теперь, казался старше. Ему можно было дать, пожалуй и под сорок лет. Он похудел и побледнел от болезни. Глаза казались тоже другими: казались больше, а взгляд еще тверже, еще упорнее, в котором было еще более силы и отваги, нежели прежде. Теперь уже всякий с первого взгляда определил бы, что за человек этот Гончий. Уж, конечно, не заурядный или дюжинный. Не будь он полуграмотный писарь, а богатый дворянин, то, ничего в нем не изменяя, можно было бы смело предсказать ему не простую судьбу на земле. Такие всегда в «люди» выходят.
И Сусанне Юрьевне вдруг теперь пришло на ум силою воображения нарядить Аньку в тот мундир, в котором явился в Высоксу Дмитрий Андреевич. Она это сделала, насколько могла, и почти ахнула… Это же худое бледное лицо со сверкающими глазами, выделяясь над золотистым мундиром, в который мысленно нарядила она его, стало вдруг чем-то диковинным.
«Как же могла я тогда, — подумалось ей, — предпочесть ему Дмитрия Андреевича, глуповатого, какого-то совсем простого. Он, Анька, — не простой. Теперь я это вижу и чувствую больше, чем когда-либо. И люблю его еще пуще после того, как изуродовала».
Между тем рассказывающий Анька смолк и смотрел на нее. Наступило молчание. Сусанна пришла в себя, поглядела на него долгим, грустно-задумчивым взглядом и вздохнула.
— Да, Аня, наваждение! — выговорила она.
— И такое еще наваждение, — произнес он улыбаясь, — что я до последней минуты не верил ни вам, ни себе… Ведь я вот уже на винтушке у вашей двери простоял долго, спрашивая: отворять ли дверь? Не лучше ли бежать обратно?
— Почему? — удивилась она.
— Как почему? А если западня?.. Если вы приказали придти сюда затем, чтобы здесь два-три холопа, по вашему приказу, меня умертвили. А тело среди ночи с камнем на шее — в озеро.
— Неужели ты это думал?
— До самой последней минуты, пока вы не взяли меня за руку и не привели сюда.
— Стало быть, ты не поверил всему, что я говорила тебе в саду? Не верил в перемену…
— И верил, и не верил!
— Если ты словам моим не верил, то ведь по лицу моему ты мог видеть, что я не лукавила, что я не из страха смерти говорила…
— Правда ваша, было что-то. Не слова ваши, а вот глаза ваши, либо голос, дали мне уверенность идти сюда. А слова что же?.. Понятное дело, что всякий, боясь быть зарезанным, обещает все на свете! Ведь вы же не верили, когда я вам говорил, что я вас не трону?
— Нет, Аня, я верила и не боялась! И ты тоже глазами и голосом меня успокоил, а не словами. Я сразу почуяла что ты меня не убьешь, а отпустишь. Я, может быть, тут только первый раз совсем поняла, как много ты меня любишь! Много больше, много умнее, чем другой кто — все они, все эти… Ну, да что их поминать! И молодые — да на стариков смахивают! Право, тот же Дмитрий Андреевич больше по-стариковски и себя и все чувствует, чем Аникита Ильич…
— А Алексей Никитич? — произнес вдруг Анька.
— И он, бедный, был то же, что иная красная девица…
— Стало быть, выходит, я один из всех?
— Да, ты один.
— Сусанна Юрьевна, — воскликнул Гончий, — ведь от таких слов ваших можно совсем ума решиться! После всего, через что я прошел, да услыхать теперь такие слова, — прямо надо разум потерять от счастья! Знаете, я, пожалуй, под утро руки на себя наложу…
— Что ты!.. И впрямь с ума сошел! — ахнула Сусанна.
— Нет, право, так! Так следует! Это меня один очень умный человек в Нижнем надоумил. Он сказывал: «Ты тогда, Онисим, после того, что хотел барышню убить, должен был себя похерить. Коли не можешь ты без нее жить, а счастию твоему пришел конец, то и жизни своей конец сам учини». Так я теперь и скажу: вот именно ныне мне след покончить с собой! Лучшего ничего в жизни не будет, а худшее, много худшее непременно будет. Сказываю вам, через полгода, либо год, вы меня опять бросите, и я опять буду видеть, как другой кто — на моем месте, а вы его ласкаете… И опять закрутится у меня невесть что на душе, опять я осатанею.
— Никогда этого ничего не будет! — воскликнула Сусанна. — Не понимаешь ты… ничего не понимаешь. Я другая стала… Колдовство это твое! Или все это страшное сделало, что промеж нас двух было… Сама я не знаю… Но один, знаю, человек на свете, которого я могу любить и должна любить… один — ты, Аня…
И, крепко обняв его, она страстно прижалась к нему.
Только перед зарей спустился Гончий по винтушке на улицу и скрылся никем не замеченный.
XVI
Три дня подряд каждый вечер, чуть стемнеет, являлся Гончий к дверям винтушки и подымался в комнаты барышни.
И многое было переговорено, многое удивительное решено бесповоротно. Сусанна Юрьевна, ожив, будто воскреснув к новой жизни, снова похорошела сразу, но зато и нравом, духом стала, казалось, еще тверже.
На четвертый день она после полудня отправилась к Басанову, странно улыбаясь, и, найдя его бодрее, чем когда-либо, она заявила ему, что у нее есть дело и что она хочет переговорить с ним наедине. Бывшие в спальне Михалис, Бобрищев, и еще двое гостей тотчас же поднялись и вышли. Дарья Аникитична продолжала сидеть на стуле около мужа и не двигалась.

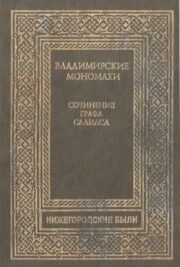
"Владимирские Мономахи" отзывы
Отзывы читателей о книге "Владимирские Мономахи". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Владимирские Мономахи" друзьям в соцсетях.