Опекунское управление получило извещение из Петербурга, что по поводу поставки последнего казенного заказа, не только исправного, но изрядного и примерного, «министр внутренних дел приказал благодарить управление в лице дворянки Касаткиной и ее помощника купца Гончего». Но это было не главное. Страшный шум наделало иное… В официальной бумаге сообщалось, что ввиду поставки важного заказа ранее срока и дешевле условленной цены, государь император по донесении о сем его величеству «изволил выразить свое удовольствие». И вся Высокса, даже все наместничество взглянули на управителя, как на настоящего опекуна. Все даже стали звать его опекуном. И Гончий стал главным и почти единственным важным лицом на заводах. Сусанна Юрьевна, сильно изменившаяся нравственно, только числилась опекуншей. Настоящие господа и будущие владельцы, Олимпий и Аркадий Дмитриевичи, окруженные кучей нянюшек, надзирательниц, а впоследствии учителей, были равно будто незаметны. На них как-то никто не обращал внимания.
Только однажды о молодых господах заговорили больше вследствие одного распоряжения барышни Сусанны Юрьевны. Двух братьев, из которых одному было пятнадцать лет, а другому — тринадцать, разделили и поместили в двух разных концах дома, и каждый имел свой особый штат.
Распорядилась так якобы сама Сусанна Юрьевна потому, что братья, чуть не с рождения дравшиеся между собой и не ладившие постоянно ни в чем, теперь уже отроки, ладили еще меньше. Впрочем, всем было известно, что виною во всем старший — Олимпий Дмитриевич. И уже давно ходившее прозвище для обоих братьев теперь стало еще более известным.
Кто-то метко окрестил их, а молва о прозвище пробежала даже за пределами наместничества: юных Басман-Басановых, наследников огромного состояния, звали «Каин и Авель». И прозвище это действительно подходило. Очевидно, в деле воспитания двух братьев была крупная ошибка или коварный умысел. Сусанна Юрьевна, руководившая воспитанием двух мальчиков, была не виновата. Если бы ее воля, то она, конечно, укротила бы постепенно старшего, но ей постоянно мешал Онисим Абрамыч. Он не допускал никаких строгих мер и никаких взысканий. Казалось, он умышленно хотел, чтобы вырос взбалмошный, вспыльчивый и жестокий Олимпий, а чтобы младший, постоянно преследуемый и обижаемый братом, стал при полной беззащитности еще трусливее и слабовольнее.
По мнению всех, Олимпий Дмитриевич был любимцем главного управителя, и ему все этим строгим человеком спускалось. Иногда казалось, что он даже потворствует дурному, нежели запрещает. Наоборот, к младшему, Аркадию Дмитриевичу, который и без того был тише воды, ниже травы, Онисим Абрамович относился строго и в случае малой провинности допускал строгое наказание.
Если не вся Высокса, не крестьяне, то во всяком случае вся родня и, конечно, все нахлебники всегда дивились, были озадачены родом воспитания, которое давалось будущим владельцам. Все положительно относились сдержаннее к старшему и сердечнее к младшему, а это выходило как бы прямым противодействием главному вершителю судеб Высоксы.
Теперь, когда Олимпий Дмитриевич был уже совершеннолетним и ожидалось совершеннолетие Аркадия Дмитриевича, чтобы оба вышли из-под опеки и сделались сами хозяевами своего состояния, Онисим Абрамыч, будто схватился за ум. Впрочем, ходила молва, что Гончий потому переменился к старшему молодому барину, что тот не сдержал своего обещания.
Когда-то, будучи юношами, оба брата постоянно обещали Онисиму Абрамычу, что когда они сделаются совершеннолетними и вступят в свои права, то не будут заниматься делами, трудными и мудреными, а будут себе жить в свое удовольствие, но заводские тяжести все останутся по-прежнему на плечах Гончего уже в качестве их вполне доверенного лица.
Это было совершенно естественно и правдоподобно. Гончий за пятнадцать лет управления, несмотря на крупные суммы, уплаченные когда-то волоките, по-видимому, привел заводы в блестящее положение. Лучше управлять никто бы не смог. Двое же молодых господ и по молодости, и по незнакомству с делами, и наконец вследствие постоянной вражды между собой, конечно, не могли бы управиться с трудной и сложной машиной.
И вдруг, за несколько месяцев до совершеннолетия Аркадия, прошел слух, что будто бы в тот день, когда младшему минет двадцать один год, братья попросят Онисима Абрамыча сдать все дела и вступят в управление сами.
Гончий был смущен, услыхав это из уст самой Сусанны.
III
В самую жару майского полдня по главной широкой аллее огромного сада, с которой виден был весь дом-дворец, шел тихо и задумавшись молодой человек… Лицо его, умное, энергическое, было сурово не по летам, так как ему шел лишь двадцать третий год.
Высокий лоб, схваченный в висках, острый нос, тонкие сжатые губы, быстрый ястребиный и хищный взгляд маленьких серых глаз, даже недобрая усмешка, даже шепот в минуту гнева — все в нем поразительно напоминало всякому старожилу Высоксы старого барина, основателя заводов.
Да, это был второй Аникита Ильич. Пока молод, он точный портрет старика Басанова, а когда состарится сам, то будет двойником его.
Это был барин Олимпий Дмитриевич Басман-Басанов, которого отец и мать еще ребенком величали в шутку «махонький Аникита Ильич». Помимо лица, взгляда, усмешки и крутого нрава, Олимпий был положительно во всем подражание или повторение деда.
Молодой человек двигался тихо, размышляя и задумавшись все об одном и том же, что поглощало теперь все его мысли за последнее время.
И прежде, давно, эти мысли приходили на ум, но лишь изредка, а теперь осаждают.

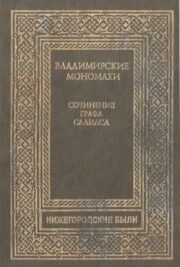
"Владимирские Мономахи" отзывы
Отзывы читателей о книге "Владимирские Мономахи". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Владимирские Мономахи" друзьям в соцсетях.