— Ну, спасибо. Но повторять буду сто раз все то же: будь готов! — со зловещим взглядом, сверкая глазами, говорил Михалис. — Пора нам быть богатыми и счастливыми.
XXVII
Наконец, наступил этот давно ожидаемый день рождения и совершеннолетия.
Празднование было давно подготовлено на все лады и должно было продолжиться три дня… Изобретательный Олимпий напряг все свое воображение, чтобы празднество было блестящим. Михалис помогал ему и придумывал тоже всякое… Так, придумал он между прочим устроить на второй день вечер с ряжеными, как на святках «машкерад». Олимпий делал все, конечно, не для брата, а для себя. Он праздновал свое личное вступление во владение состоянием, хотя пока и вместе с глупым братом.
«Пока!»
Да, эта мысль теперь уже не покидала Олимпия. Михалис сумел давно уничтожить в нем всякое колебание и всякое смущение, тем паче, что брал все на себя, да еще клялся, что он так устроит, что тот скончается вдруг, на глазах у всех, а виновных не будет.
«Как сделает он это? — думалось Олимпию. — Непонятно. Но Михалису нельзя не верить. Он жаден! А документ на обещанные ему еще десять тысяч, выданный ему, действителен условно. Если он ничего не сделает, то ничего и не получит».
За два-три дня до празднества все приглашенные уже съехались, и дом был переполнен. Самые почетные гости были размещены наверху и в комнатах двух братьев, которые потеснились, оставив себе по две комнаты, а остальные переделав в спальни. Некоторых нахлебников внизу совсем перевели из дома, очистив их помещение для менее важных гостей.
Приезжих из губернии и даже из Москвы было до сорока человек, а в их числе было немало лиц, которых братья лично почти не знали. Это были хорошие знакомые, даже приятели их отца, с которыми он подружился, будучи под судом и живя во Владимире. Братья еще детьми видели их всех на похоронах отца.
В самый день рождения Аркадия все поднялось рано и к девяти часам господа, гости, нахлебники, коллегия и канцелярия в полном составе, даже вся дворня — все направились в экипажах и пешком в главный храм к обедне. Служба была торжественная, потому что служил архиерей, приглашенный заранее со своими собственными певчими и с большим штатом священников и дьяконов.
Красивый, блестящий конвой из гусар стоял фронтом пред папертью, а за ним теснилась целая туча народа, рабочих и крестьян, так как работа на заводах была приостановлена на три дня.
По окончании обедни началось молебствие о здравии боляр Олимпия и Аркадия. Рослый и красивый дьякон, с замечательным голосом, своего рода знаменитость во всем округе, провозгласил многолетие… И голос его прогремевший в храме, разнесся и кругом него. В рядах гусар и толпы услышали явственно:
— Мно-о-гая… мно-о-о-гая лета! — подхваченное певчими.
И тотчас вся Высокса, огласилась гулкой пальбой из пушек, расставленных кругом храма.
Возвращение в дом было тоже торжественно. Коляски с двумя братьями, с архиереем и с тремя самыми почетными гостями двинулись шагом, предшествуемые и сопровождаемые гусарами в кафтанах, залитых золотом, и на великолепных конях. Кругом колясок шли скороходы в диковинных разноцветных нарядах с серебром и с киверами на головах, вокруг которых развевались красные перья.
Ничего подобного Высокса еще не видала.
Один из гостей из губернии, тотчас по приезде своем узнав, какое готовится празднование, заметил:
— Ну, этот Олимпий Дмитриевич из всех бывших Мономахов Владимирских будет самый прыткий, «помономашистее» и отца и деда.
После храма началось принесение поздравлений новорожденному… Аркадий смущался и сиял, и только изредка на лицо его набегала тень. Его пугал взгляд брата. Он видел в глазах Олимпия не только ненависть к себе, а какое-то зловещее злорадство.
«Ни дать, ни взять затевает что-то худое, — думалось Аркадию, — и уж, конечно, касающееся Сани».
А красавица Сусанна Денисовна, явившаяся в дом с матерью тоже поздравить молодого барина, была к тому же бледна и печальна. Судьба отца и брата, конечно, поразила ее.
После поздравления все разошлись отдохнуть, но в три часа снова гостиные переполнились, а в зале уже был накрыт стол на семьдесят с лишком человек. Вся Высокса была налицо. Все нахлебники и главные служащие коллегии и канцелярии были приглашены. Только и отсутствовали по-прежнему больная Сусанна Юрьевна и два Змглода.
Обед длился, конечно, долго, а для виновника празднества показался вечностью, так как Олимпий удивил всех и испугал брата, посадив около себя справа архиерея, а слева Сусанну Денисовну… Красавица всячески отказывалась от этой чести, когда все усаживались за стол, но Олимпий настоял упрямо на своем… Аркадий, севший на другом конце стола с двумя почетными гостями, лишился из-за ревности и беспричинной боязни и зрения и слуха. Он никого и ничего не видел и не слышал. Он видел только через весь стол одну свою возлюбленную, с которой Олимпий не переставал любезничать, как бы нарочно, будто напоказ всем, даже будто с тайным умыслом. Красавица Сусанна, печально бледная и видимо смущенная теперь тем, что от него слышит, отвечала сдержанно…
За тем же столом в средине была другая юная красавица, которая была еще печальнее «Змглодушки» и не отрывала глаз от нее и Олимпия. Это была Платонида Михалис.
А в то же время с нее не спускал глаз ее брат, и лицо его выдавало внутреннюю бурю. Платон знал, что его дорогая Тонька страдает.
Когда все поднялись, наконец, из-за стола, Михалис тотчас подошел к барину и выговорил весело:
— Олимпий Дмитриевич… Глядите что?
И он показал в окно на небо.
Сизая хмурая туча надвигалась с горизонта со стороны озера.
Было очевидно, что через час разразится сильнейшая гроза.
— Ох! Обида! — воскликнул Олимпий. — Вся половина дня пропала!
— Зачем! — рассмеялся Михалис. — Сейчас переменим. Гулянье в лодках и иллюминацию отложим до завтра. А сегодня прикажите машкерад.
— Отлично! — воскликнул Олимпий. — Да у всех ли готово ряженье?
— Как есть у всех.
И надвигающаяся гроза, опечалившая всех вдруг, стала причиной особой радости и ликования. Все, узнав, что прогулка отменяется и заменяется ряжением и танцами, только обрадовались… Все, у кого костюмы были еще не в полном порядке, бросились по своим комнатам придумывать, как обойтись или состряпать недостающее что-либо на скорую руку.
Сусанна Денисовна, сильно взволнованная после стола, прощаясь с Аркадием, тихо молвила:
— Я не буду ввечеру: душегрейка[37] еще не обшита галуном.
Аркадий печально поглядел на нее.
— Да и не до того, чтобы рядиться и плясать… Я боюсь…
— Чего? — глухо и испуганно спросил он.
— Так! Боюсь. Он Бог весть что мне болтал. Понять нельзя. Загадки… а страшно… Будто затевает что не сегодня-завтра злодейское!
— И я так-то думаю! Но помните… Помни, Саня, пока я жив, он с тобой ничего не сделает.
Сусанна не ответила и грустно поникла головой. Она не верила.
«Не отстоял отца и брата, — думалось ей. — Стало быть, и меня не отстоит».
В сумерки действительно разразилась сильнейшая гроза и грохотала два часа. Гром гремел и молния, сверкая, падала, казалось, над самым огромным домом. И басановские палаты трепетали будто пугливо под натиском небесного гнева… Стены дрожали, а в стенах, во всех комнатах шла гулко веселая суетня, чуть не сумятица. Все наряжались, а выходя и глядя друг на друга и в зеркало, хохотали до упаду. Только старики охали и крестились.
— Не в пору это скоморошество!.. Грех! Молитву читать надо. И свечу зажечь против грома небесного. И так-то не святки или масленица, а тут еще эта непогода, которая будто гнев Божий показует.
Однако около семи часов все стихло. Небо прояснилось, и после душного дня повеяло благодатною прохладой.
В восемь часов зал и все гостиные были переполнены ряжеными в диковинных масках и образинах. Все друг на дружку дивились. По предложению и по приказу, гостям и своим, заранее придуманному затейником Михалисом и объявленному Олимпием, все заранее тщательно скрывали и никому не показывали своих костюмов и масок. Никто не знал, в чем будут даже оба барина и главные гости.
И теперь в шумной, суетливой толпе ряженых нельзя было узнать, кого видишь, с кем говоришь. Было только одно обстоятельство, руководящее догадками. Были костюмы обыкновенные и недорогие, были совсем простые, и было с десяток диковинных, богатых одеяний, очевидно выписанных из столицы. А в числе прочих и двое нищих в рубищах и с мешками за спиной.
Пуще всех поражал, великолепием своего костюма из атласа и бархата турок в чалме, усеянной брильянтами, и с поясом, украшенным тоже самоцветными камнями. Все догадывались, что это «сам» барин Олимпий Дмитриевич.
Где и в чем найти и узнать другого младшего барина, все затруднялись и, наконец, стали говорить, что будто Аркадий Дмитриевич, ввиду непогоды и грома небесного, не захотел рядиться и отсутствует.
Затем прошел такой удивительный слух, якобы Платона Михалиса видели сейчас еще не одетого у него в комнатах около захворавшей вдруг сестренки… Но зато было другое совсем удивительное… Кто-то среди массы народа признал по голосу Ивана Змглода, якобы сидящего под арестом с отцом в рунтовом доме.
Гул, шум и хохот, едва заглушаемый оркестром полусотни музыкантов, все усиливался. Гости, постоянно очередно осаждавшие два буфета со всякими заморскими винами, становились все веселее. Даже сам турок, которого уже окрестили «господином салтаном», был будто слегка навеселе и, перестав картавить, дал возможность узнать себя по голосу. Он бродил по всем комнатам между ряжеными и, не стесняясь, говорил, что тщетно ищет двоих:
— Нет нигде Сусанны Денисовны и Платона. Я их ряженье знаю. Не могли же они вдруг заменить свои костюмы другими какими. Ну, Змглодушка, еще, пожалуй, надумалась, догадавшись, что я про ее ряженье пронюхал, а Платон был и сгинул.
Подойдя снова к буфету, «господин салтан» очутился в кучке веселых ряженых, а вплотную с ним оказался вдруг такой ряженый, что он ахнул… Это был петух… Как есть петух, весь в перьях с головы до ног, с гребешком и с диковинным хвостом.
— Ку-ку-рику! — пел он визгливо всякому над самым ухом и сделал то же и с «господином салтаном». Турок рассмеялся и спросил:
— Откуда ты петух взялся? Тебя не было.
— Куку. Сейчас из Москвы прибежал. Рику-у! — отозвался петух одним визгом.
И все кругом расхохотались.
Петух нагнулся над ухом турка и что-то шепнул ему.
— Вздор! — отозвался тот вдруг гневно, но слегка пьяным голосом, так как сейчас еще осушил до дна залпом уже четвертый стакан столетнего венгерского из запаса вин Аникиты Ильича.
— Верно говорю! — провизжал петух.
— Я сейчас прикажу и Михалиса с Тонькой и Абашвили силком привести… Как смеют не праздновать! — вскрикнул гневно турок, и всякий признал, конечно голос Олимпия Дмитриевича.
Петух снова наклонился над ним и снова шепнул что-то.
— Ладно… Пойдем… В маленькой желтой гостиной. А коли кто есть, прикажу выйти… ведь недолго расписывать будешь.
— В двух десятках словах все дело… и что ни слово — алмаз! — отозвался петух гнусливо.
И салтан с петухом двинулись через три гостиные в угольную маленькую. Там оказалось трое ряженых, весело болтавших, а на полу в углу сидел четвертый. Это был нищий с мешком.
— Господа, уходите. У нас дело важное. Беседа по секрету, — сказал салтан.
Гости или подозревавшие, или уже знавшие, кто в костюме турка, тотчас вышли из комнаты. Только нищий остался.
— Ну, а ты… Эй попрошайка… пошел вон! — крикнули ему.
Нищий хотел встать на ноги, но не мог. Он был совершенно пьян. Он встал на четвереньки, дополз до порога и ткнулся снова.
— Ну, черт с ним. Пускай лежит, — выговорил петух. — Спьяна ничего не поймет. Ну, слушай, господин салтан, и двадцати слов не будет. Слушай в оба… слушай. Когда какой изувер, развратник отнимет у брата сестру и у жениха невесту, да обманом ее губит, то за такое вот что с ним приключ…
Петух не договорил и взмахнул рукой над салтаном. Тот тихо вскрикнул и схватился за грудь. Еще два раза взмахнул петух рукой, в которой блестел длинный нож, и два раза с силой всадил его снова.
Турок, хрипя, зашатался и грохнулся навзничь на пол, обливаясь кровью, хлынувшей из трех ран. В отверстиях маски тоже показалась кровь.

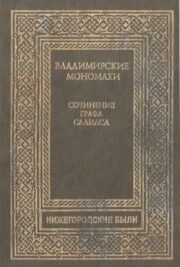
"Владимирские Мономахи" отзывы
Отзывы читателей о книге "Владимирские Мономахи". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Владимирские Мономахи" друзьям в соцсетях.