Гудрун, вспыхнув, сидела, разглядывая свои руки. Ей понравилось, с какой простотой он сказал ей, что она неординарная женщина. Он сказал это не для того, чтобы польстить ей – он был слишком самоуверенным и объективным от природы. Он сказал это так же, как сказал бы, что такая-то скульптура замечательная, потому что он знал, что так оно и есть.
И ей было приятно услышать это от него. Остальные люди так страстно пытались подогнать все под одну линейку, сделать все одинаковым. В Англии считалось приличным быть совершенно заурядным. И она почувствовала облегчение, что кто-то признал ее отличность от других. Теперь ей не нужно было беспокоиться по поводу соответствия общепринятым стандартам.
– Понимаете, – сказала она, – у меня вообще-то нет денег.
– Ах, деньги! – воскликнул он, пожимая плечами. – Если ты взрослый человек, то денег вокруг полным-полно. Только в молодости деньги редко встречаются на пути. Не думайте о деньгах – они всегда есть под рукой.
– Вот как? – смеясь, сказала она.
– Всегда. Этот ваш Джеральд даст вам нужную сумму, только попросите.
Она глубоко покраснела.
– Лучше попрошу у кого-нибудь другого, – с трудом выдавила она, – только не у него.
Лерке пристально рассматривал ее.
– Отлично, – сказал он. – Значит, это будет кто-то другой. Только не возвращайтесь туда, в Англию, в ту школу. Это было бы глупо.
Вновь воцарилась пауза. Он боялся напрямик предложить ей поехать с ним, он даже еще был не вполне уверен, что она была ему нужна; она же боялась, что он ее спросит. Он покинул собственное убежище, он был необычайно щедр, разделив с ней свою жизнь, хотя бы даже и на один день.
– Единственное место, где я была, это Париж, – сказала она, – но там совершенно невыносимо.
Она пристально посмотрела на Лерке неподвижным взглядом расширившихся глаз. Он наклонил голову и отвернулся.
– Только не Париж! – сказал он. – Там тебе приходится весь день крутиться, как белке в колесе – бросаясь от religion d’amour[115] к новомодным «измам», к очередному обращению к Иисусу. Едемте в Дрезден. У меня там студия – я могу дать вам работу – о, это будет несложно. Я не видел ваших работ, но я в вас верю. Едемте в Дрезден – в этом красивом городе приятно жить, причем жизнь там вполне сносна, если такое можно сказать о жизни в городе. Там есть все – нет только парижских глупостей и мюнхенского пива.
Он выпрямился и сухо посмотрел на нее. Ей нравилось в нем то, что он говорил с ней так просто, так откровенно, как с самим собой. Для начала он был соратником по искусству, близким ей по духу существом.
– Париж – нет, – размышлял он, – меня от него тошнит. Фу – l’amour. Она мне ненавистна. L’amour, l’amore, die Liebe – неважно, на каком языке, но она вызывает у меня отвращение. Женщины и любовь – скучнее и не придумаешь.
Она слегка обиделась. В то же время его слова отвечали его чувствам. Мужчины и любовь – скучнее не бывает.
– Я согласна, – сказала она.
– Скука, – повторил он. – Какая разница, та на мне шляпа или другая. Так и любовь. Шляпа мне вообще не нужна, я ношу ее только для удобства. Так и любовь мне нужна только для удобства. Вот что я вам скажу, gnädige Frau – он наклонился к ней, а затем сделал странный быстрый жест, точно от чего-то отмахиваясь – хорошо, gnädige Fraulein – вот что я вам скажу: я отдал бы все, все на свете, всю эту вашу любовь за собрата по разуму, – в его глазах, обращенных на нее, мерцали темные, зловещие огни.
– Вы понимаете? – спросил он с легкой улыбкой. – Неважно, будь ей хоть сто лет, хоть тысяча – мне было бы все равно, если бы только она могла понимать.
Он резко закрыл глаза.
Гудрун же вновь обиделась. Значит, он не считает ее привлекательной? Она внезапно рассмеялась.
– В таком случае придется мне обождать лет восемьдесят, чтобы соответствовать вашему вкусу. – Я ведь такая страшная, да?
Он окинул ее быстрым, анализирующим, оценивающим взглядом художника.
– Вы прекрасны, – сказал он, – и я очень этому рад. Но дело не в этом – не в этом! – воскликнул он с горячностью, которая невероятно ей польстила. – Просто у вас есть разум, вы умеете понимать. Посмотрите на меня – я маленький, хилый, я ничего не значу в этом мире. Прекрасно! В таком случае не просите меня быть сильным и красивым. Однако это моя сущность, – он странным движением прижал пальцы к губам, – это то самое я ищет себе любовницу, и мое я желает твою сущность, сущность любовницы, которая подошла бы в пару моему особенному разуму. Ты понимаешь?
– Да, – сказала она. – Я понимаю.
– Что касается всего остального, этих амуров, – он махнул рукой, точно отмахиваясь от чего-то назойливого, – они не имеют никакого значения, они меня совершенно не интересуют. Разве есть какая-нибудь разница в том, буду ли я сегодня за ужином пить белое вино или же я вовсе не буду ничего пить? Это не важно, не важно. Так и эта любовь, эти амуры, эта baiser. Да или нет, soit ou soit pas, сегодня, завтра или никогда – все это одно и то же, это ничего не значит – не больше, чем белое вино.
Он закончил эту тираду, горестно склонив голову в отчаянном отрицании всего мира. Гудрун пристально смотрела на него, побледнев. Внезапно она потянулась и взяла его за руку.
– Это верно, – сказала она довольно высоким, звучным голосом, – это верно и в моем случае. Важно только понимание.
Он украдкой посмотрел на нее испуганным взглядом. И немного угрюмо кивнул. Она выпустила его руку: он не ответил на ее пожатие. Они сидели молча.
– Ты знаешь, – сказал он, обращая на нее потемневшие, всепонимающие глаза – глаза пророка, – твоя судьба и моя судьба сольются в один поток только до того момента, как… – и он с легкой гримаской оборвал себя на полуслове.
– До какого именно момента? – спросила она, еще больше побледнев, и казалось, ее губы превратились в две белых полоски.
Она всегда была очень восприимчивой к подобным дурным предсказаниям, но он только покачал головой.
– Не знаю, – сказал он, – не знаю.
Джеральд вернулся с лыжной прогулки только вечером, оставшись без кофе и пирога, которыми она насладилась в четыре часа. Снег был превосходным, он в полном одиночестве проделал на своих лыжах большой путь по заснеженным горным гребням; он забирался очень высоко, так высоко, что он видел самую верхнюю точку перевала, которая была в пяти милях отсюда, видел Мариенхютте, полупогребенную под снегом гостиницу на перевале, смотрел в расстилавшуюся под ним глубокую долину, где темнели сосны. Можно было отправиться этим путем домой – но при мысли о доме ему стало не по себе; можно спуститься на лыжах туда, выйти на древнюю имперскую дорогу, под перевалом. Но зачем выходить на дорогу? Мысль о том, чтобы вернуться в мир, была ему крайне неприятна. Он должен навсегда остаться в этих снегах. Он был счастлив наедине с собой, забравшись так высоко, быстро летя на лыжах, выбирая отдаленные спуски и проносясь мимо темных скал, пронизанных жилками искрящегося снега.
Но он почувствовал, что какая-то ледяная рука сдавливает его сердце. Эта необычная терпеливость и наивность, которая держалась в нем на протяжении нескольких дней, постепенно рассеивалась, и ему вновь придется пасть жертвой чудовищных страстей и мучений.
Он неохотно приближался к дому в лощине между пальцев горных вершин, светящемуся и чужому. Он увидел, как там загорались желтые огни, и повернул назад, всем сердцем желая, чтобы ему не нужно было туда возвращаться, вновь встречаться с этими людьми, слушать гул их голосов и чувствовать присутствие других людей. Он был одиноким, словно его сердце было окружено пустотой, словно оно находилось в идеальной ледяной оболочке.
Но как только он увидел Гудрун, его сердце сделало сильный скачок. Она, такая величественная и восхитительная, снисходительно и мило улыбалась немцам. В его душе внезапно проснулось желание – желание убить ее. Он подумал, какой же упоительный, чувственный экстаз, должно быть, ощутит он, убивая ее. Весь вечер его мысли где-то витали, снег и его безумное желание сделали его совершенно иным человеком. Но эта идея жила в нем постоянно – как же, должно быть, восхитительно душить ее, выдавить из нее последнюю искру жизни, чтобы ее обмякшее тело, обмякшее навеки, безвольно лежало – мягкое мертвое тело, мертвое, как булыжник. Тогда она будет, наконец, принадлежать ему всецело и навеки; это будет восхитительный, пьянящий конец.
Гудрун и не подозревала о его чувствах, он казался тихим и дружелюбным, как всегда. И его доброжелательность даже пробудила в ней желание сделать ему больно.
Она вошла в его комнату, когда он уже наполовину разделся. Она не заметила злорадной, торжествующей усмешки, в которой читалась неподдельная ненависть, когда он посмотрел на нее. Она стояла у двери, не снимая руки с ручки.
– Я тут подумала, Джеральд, – сказала она с ошеломляющей беззаботностью, – я никогда не вернусь в Англию.
– О, – сказал он, – а куда же ты направишься?
Но она оставила его вопрос без ответа. Ей хотелось сделать свои логические заключения, и ей хотелось, чтобы все было так, как задумала она.
– Я не вижу смысла возвращаться, – продолжала она. – Между нами все кончено… – она помедлила, думая, что он что-нибудь скажет. Но он молчал. Он только говорил про себя: «Кончено, да? Пожалуй, что так. Но не закончено. Помни, ничего не закончено. Нужно положить этому конец. Должно быть заключение, некий финал».
Так говорил он про себя, а вслух он не произнес ни слова.
– Что было, то было, – продолжала она. – Я ни о чем не жалею. Надеюсь, и ты ни о чем не жалеешь…
Она ждала, что он все же заговорит.
– О, я ни о чем не жалею, – с уступчивым выражением сказал он.
– Ну и прекрасно, – отозвалась она, – прекрасно. Никто из нас не затаил обиды на другого, все так, как и должно быть.
– Именно так, – рассеянно подтвердил он.
Она помедлила, пытаясь вспомнить, что хотела сказать.
– Наши попытки провалились, – сказала она. – Но мы можем попытаться вновь, в другом месте.
По его телу пробежала искра ярости. Казалось, она возбуждала его чувства, хотела пробудить в нем раздражение. Зачем она это делает?
– Какие еще попытки? – спросил он.
– Быть любовниками, полагаю, – сказала она, слегка опешив, но в то же время она сказала это так, что все это предстало совершенно заурядным делом.
– Наша попытка быть любовниками провалилась? – повторил он вслух.
А про себя он говорил: «Я должен убить ее здесь. Мне осталось только это, убить ее».
Тяжелое, страстное желание лишить ее жизни захватило его. Она же и не подозревала об этом.
– А разве нет? – спросила она. – Ты считаешь, что она удалась?
И вновь этот оскорбительно-легкомысленный вопрос огнем пробежал по его жилам.
– Наши отношения могли бы сложиться, – ответил он. – Все могло бы получиться.
Но прежде, чем закончить последнюю фразу, он помолчал. Даже когда он начинал говорить, он не верил в то, что собирался сказать. Он знал, что их отношения никогда бы не сложились удачно.
– Да, – согласилась она. – Ты можешь любить.
– А ты? – спросил он.
Ее широко раскрытые, наполненные мраком глаза, пристально смотрели на него, словно две темные луны.
– А я не могу любить тебя, – сказала она откровенным, холодным искренним тоном.
Ослепительная вспышка затмила его сознание, его тело задрожало. Сердце опалило огнем. Его запястья, его руки наполнились невыразимым ожиданием. В нем жило только одно слепое, яростное желание – убить ее. Его запястья пульсировали – ему не будет покоя, пока его руки не сомкнутся на ее шее.
Но до того как он метнулся к ней, на ее лице отразилась внезапная догадка и она молнией выскочила за дверь. В одно мгновение она долетела до своей комнаты и заперлась в ней. Ей было страшно, но она не теряла самообладания. Она понимала, что находится на волоске от пропасти. Но она твердо стояла на земле. Она знала, что она более хитрая, что она сможет его одурачить.
Она стояла в своей комнате и дрожала от возбуждения и страшного воодушевления. Она знала, что сможет провести его. Она могла положиться на свое присутствие духа и на свою проницательность. Но теперь он поняла, что это была война не на жизнь, а на смерть. Один неверный шаг – и она погибла. В ее теле поселилась мрачная напряженная дурнота, некий подъем сил, как у человека, который вот-вот упадет с большой высоты, но который не смотрит вниз, не желая признавать, что ему страшно.
«Я уеду послезавтра», – решила она.
Одного ей не хотелось – чтобы Джеральд подумал, что она боится его, что она бежит только потому, что испугалась. Она совершенно не боялась его. Она понимала, что лучше ей избегать физического насилия с его стороны. Но и даже этого она не боялась. Ей хотелось доказать это ему. Когда она докажет ему, что, кем бы он ни был, она его не боится; когда она докажет ему это, она сможет распрощаться с ним навсегда. А пока что война между ними – страшная, как она уже поняла – продолжалась. И ей хотелось быть уверенной в себе. Как бы страшно ей ни было, ему ее не запугать, она его не боится! Он никогда не сможет ее запугать, не сможет властвовать над ней, никогда не получит право распоряжаться ею; она проследит, чтобы это было так, пока не докажет ему это. А как только докажет, освободится от него навсегда.

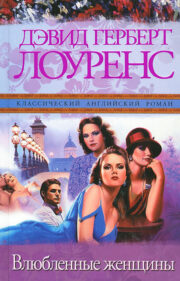
"Влюбленные женщины" отзывы
Отзывы читателей о книге "Влюбленные женщины". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Влюбленные женщины" друзьям в соцсетях.