– Тогда она не будет синей! – упирался Миша.
– Она будет такой, какая есть на самом деле, а не то, что у тебя – ночная ваза ядовитого, неправдоподобного, баклажанного цвета! – прокричала тетя и прибежала к нам вся в красных пятнах. – Вот дурак! Как его только в художественное училище взяли?! Макашов! Нужно для Дуни кроватку сделать! Я сейчас бегу в мастерскую, вечером на вокзал – Марта из Таллина приедет. Ну все, пока, я побежала!
Тетя тогда работала над лавровой ветвью – плакатом, который спустя три месяца висел во всей красе на одном из домов Цветного бульвара перед очередным фестивалем молодежи.
Юра Макашов сколачивал для меня кроватку, раза три чуть было не саданул себе по пальцу, глядя на родительницу мою. А когда мой лежак был готов, подошел к ней сзади и прошептал:
– Матреш, а может, бросишь все и выйдешь за меня замуж? А? Я Дуняшку удочерю, как родная будет!
– Нет, – тихо проговорила мамаша, глядя в окно.
– Но ведь ты меня любишь. Я вижу, что ты неравнодушна ко мне!
– Нет.
– Что – нет? – встрепенулся он. – Нет – «да» или нет – «нет»?
– Нет – «нет»! У меня муж есть. Я его люблю и жду. И буду ждать.
А мамаша-то врала насчет «нет-нет» – неравнодушна она была к Юре Макашову! Уж кому, как не мне, об этом знать! Вот странность-то какая – обожая моего отца (можно сказать, до безумия), она одновременно любила и Макашова, который катал ее на велосипеде, показывал ей церковь и фрески за три года до ее замужества.
– Бред какой-то! Но ведь у нас с тобой любовь была!
– Да. Помнишь, как мы с Лидкой поменялись ботинками – у нее ведь нога на размер меньше...
– Ты все ноги в кровь сбила и молчала...
– А ты, когда увидел, два километра меня до дома на руках нес... – и она наконец отвернулась от окна и посмотрела на Макашова. Он обнял ее. У нее голова, видать, закружилась. Юра приник к ее губам... «Закричать или не закричать? – размышляла я. – Да ладно, пусть целуются, вроде мужик-то ничего, кровать мне сделал».
Но поцеловаться им все-таки не удалось, потому что как раз в этот кульминационный момент в дверь нетерпеливо позвонили. То ли Зоська, то ли Миша открыл дверь, и в комнату ворвалась бабушка № 1, звеня судочками с детсадовским обедом:
– Нет! Это что ж такое получается?! Прихожу на первый этаж – ни тебя, ни Дуси! Спрашиваю – где? И мне никто ничего ответить не может – все пьяные, Клавка сипит что-то, не пойми что. Бабки Сары нет, пришлось ждать! – Она скинула на кровать свое неизменное пальто бутылочного цвета с искрой и продолжила: – Благо, пришла скоро. Я, говорит, на огороде была, проверяла, на месте ли дом. Ох! Дом! Одно название! Скворечник какой-то, а не дом! Ну и рассказала, что ты Дунечку подхватила да к Лиде уехала! Я сюда! Такова она – тяжкая материнская ноша моя! – высокопарно заключила она и всплакнула даже.
До глубокого вечера бабушка проторчала у племянницы, присосавшись к плите – все готовила и готовила – она, казалось, боялась, что кто-то в доме останется голодным. После ужина приехала Лида вместе с полной темноволосой женщиной в коричневом кроличьем полушубке и серых шерстяных брюках. Это была Марта из Таллина. Она прожила в Старом городе всю жизнь, растапливая камин углем и каждую субботу посещая костел с высоким, устремленным в изменчивое прибалтийское небо, пиком, но говорила на чистом русском языке.
– О! Какой мальчик! – восторженно воскликнула она после того, как Юрик Макашов скрылся в кухне, и решила немедленно приступить к действию. – Лида, он женат?
– Кто? Макашов? Нет! Что ты! – почему-то удивилась тетя.
И Марта с той минуты начала очаровывать Юрика – очаровывать дерзко, смело, напрямую. Она скинула с себя полушубок. Мало того, зашла в маленькую комнату, улыбнулась мне натянутой, неестественной улыбкой, натужно спросив:
– Чей это такой замечательный ребенок?
И, не получив ответа, потому что в комнате, кроме меня, никого не было, стянула с себя брюки, свитер, порылась в чемодане и, отыскав ярко-красную коротенькую комбинацию с широким кружевом, облачилась в нее и вылетела на кухню – соблазнять Макашова.
– Ой! – испугалась бабушка № 1 – наверное, Марту увидела. – Платье-то у вас какое! – Больше ничего по поводу «платья» она сказать не могла и, чтобы достойно выйти из щекотливого положения, спросила: – А Дунечка там не проснулась?
– Лежит в кроватке, глазами хлопает, – весело ответила Марта, и бабушка тут же притащила меня в кухню.
– Такой спокойный ребенок, – задумчиво проговорил Макашов.
– Да, но если рот раскроет, стены трясутся, – заметила моя родительница, помешивая что-то в ковшике.
Марта сидела на табуретке, закинув ногу на ногу. Ноги у нее были толстые, противного белого цвета. Плечи покатые, припухлые какие-то, они напоминали подушки – вообще, все ее тело напоминало огромную мягкую пуховую подушку в причудливой рваной ярко-алой кружевной наволочке. Ей было, наверное, не меньше тридцати семи лет. Густые волосы казались еще чернее, чем были на самом деле. «Лучше бы голову помыла, вместо того чтоб тут сидеть, свои телеса напоказ выставлять», – подумала я. Черты лица – резкие, грубые. Появились первые морщины как доказательство ее требовательного, жесткого характера – две складки от носа к губам, на лбу – злые, будто ножом прорезанные, четыре горизонтальные линии от вечного выражения недовольства. Но сейчас она сидела и пыталась загадочно улыбаться, боясь шире раскрыть рот, чтобы не показать металлическую коронку.
– И как вам только не холодно! – удивилась бабушка.
– Нет, нормально, – ответила Марта, стараясь изо всех сил быть любезной. – Юрик, а вы не хотите написать меня?
– Нет. Я вот все Матреше предлагаю, прекрасно бы получилось, а она не хочет, – просто, без всякой задней мысли, брякнул Макашов.
– Что – голую? – в ужасе спросила бабушка.
– Да что ж тут такого? – улыбнулся тот.
– И правильно! Не соглашайся, Матрен! – ревностно взревела бабушка. – Это ж разврат какой! А где Лида?
– С Мишей и Зоськой в большой комнате, они там собираются, – пояснила Марта. Ноги ее посинели от холода и покрылись пупырышками, чем напомнили окорочка откормленных кур. – А я бы вам попозировала, Юра! – навязывалась она.
– Я тут, Матрен, решила – пора мне на пенсию уходить. Хватит чужих детей воспитывать. Займусь внучкой, – бухнула вдруг бабушка, и на следующий день сделала, что обещала.
К тете Лиде переехали не только мы с мамашей, но и Зоя Кузьминична. Она не вылезала оттуда – лишь иногда, когда уж совсем негде было переночевать, ехала на ночь глядя к своему несчастному Ленчику, которого после разрыва с жлобкой Светкой – той самой, что даже обои на стенах не оставила, утешала новая пассия, очень хорошая девушка во всех отношениях, Наташа. Однако месяца через три оказалось, что Наташа куда хуже Светки – наглая базарная девица. Вскоре Наташу сменила Людочка – она была просто прелесть! Такая хозяйственная, умненькая, культурная, никогда худого слова не скажет, не огрызнется – все больше молчит, только иногда предложит: «Зоечка Кузьминична, давайте я в вашей комнате пол вымою», или «Зоечка Кузьминична, сегодня на ужин голубцы, присоединяйтесь!». Казалось бы, чего уж больше хотеть?! Но нет! Не может быть все так гладко, так слишком хорошо. Змеей подколодной оказалась Людочка! И одним знойным летним утром эта самая Людочка, этот ангел во плоти, подпихивает вдруг Зоечке Кузьминичне какую-то бумагу и просит подписать.
– Что это? Что я должна подписать? – удивленно спрашивает она.
– А ничего особенного. Вот тут, вот тут, – и пальчиком своим миниатюрным тыкает в нижний правый угол документа.
– Что – вот тут, вот тут? Ты мне, голубушка, объясни! – не будь дурой, потребовала бабушка.
– Ну, что вы не против моего проживания в вашей квартире, – засмущался ангел во плоти и торопливо добавил: – Ленчик уже подписал.
– А я не стану, – отрезала Зоечка Кузьминична и тут же побежала жаловаться дочери: – Она прописаться к нам хотела! Мягко стелет, да жестко спать! Мерзавка! Ленчика вокруг пальца обвела, но со мной этот номер не пройдет! – кричала она. И в тот же день обведенный вокруг пальца Ленчик спустил с лестницы хозяйственную, культурную, умненькую Людочку, а вслед за ней – ее вещи.
Место Людочки пару дней спустя заняла Ирочка – неплохая девочка, немного «муругая», неразговорчивая, но это лучше, чем без масла в одно место внедряться. Однако и Ирочка долго не продержалась – через месяц сама ушла. И так сменяли девушки друг друга, и так пытался бедный Ленчик устроить свою судьбу, да никак ему отчего-то не удавалось этого сделать, пока лет через пятнадцать после моего рождения в доме не появилась Маша – бабища в центнер весом при росте метр шестьдесят, с вечно сальными жидкими волосами, из которых она умудрялась соорудить «гулю» на затылке и которые еженедельно подпитывала луковой маской и подкрашивала басмой. В свободное от работы время Марья, с трудом втиснувшись в кресло, поджав под себя ноги, разгадывала кроссворды и щелкала семечки. Или бежала с сумками к матери, или, уединившись на кухне вдвоем с холодильником, опустошала его подчистую, а потом с невинной трехподбородковой физиономией появлялась перед Ленчиком.
Мы прожили у тети две недели, и все это время Марта не оставляла в покое Макашова. У нее не получилось заставить его запечатлеть ее телеса для потомков, но она не отчаялась, не остановилась на этом – все ходила за ним хвостом в красной своей комбинации и жаловалась:
– Юрик, мне что-то зябко. Погрел бы...
– Иди оденься! – раздраженно отвечал ей Юрик, потом садился возле меня и долго задумчиво глядел мне в лицо, будто пытаясь отыскать в нем черты своей любимой Матренушки.
Ситуация накалилась, обострилась и стала совсем невыносимой после того, как Макашов подарил маме, вернее, не ей, а мне, гипсовую голую бабу высотой сантиметров в сорок, на подставке, хотя в подставке и не было необходимости – у нее ноги могли бы послужить бесподобной устойчивой опорой для крепкого сбитого тела. Она стояла, одной рукой подперев бок, другую занесла над головой так, что казалось – либо она любовалась красотой заходящего солнца, либо только встала с кровати и вот-вот собралась зевнуть, но вдруг мысль о никчемности существования, его бесполезности от недостатка любви, недоцелованности переборола зевоту, и несчастная женщина закинула над головой руку в состоянии крайней безнадежности и безысходности, говоря всем своим видом: «Куда ж вы все, мужики-то настоящие, подевались?! Не осталось вас совсем, раз на такую красоту никакого внимания не обращаете!»
Юра поставил пышную барыню, страдающую от дефицита любви и отсутствия настоящих мужиков, на стол.
– Матренушка, я хочу подарить Дуне вот эту статуэтку, – произнес он, явно преодолевая себя. – Это очень дорогая вещь – работа Федора Палыча Котенкова. Он подарил мне ее, когда в Палехе отдыхал, прямо перед кончиной. Возьми.
– Нет, нет! – испуганно воскликнула мамаша и завертела головой в знак того, что ни под каким видом она принять такого подарка не может.
– В конце концов, я не тебе ее дарю, а Дуняше. Ты не смеешь за нее отказываться!
«Вот именно! Эта толстая тетка еще пригодится! Бери!» – настойчиво говорила я, но меня, конечно же, никто не слышал.
– Самого Котенкова?! Нет, я не могу!
– Можешь! – сказал он и вышел вон из комнаты. Марта, стоявшая все это время за дверью и подслушивавшая, недовольно фыркнула и кинулась жаловаться Лиде. Та минут десять спустя появилась на пороге и принялась отчитывать мою родительницу.
– Как тебе только не стыдно! – обрушилась на нее тетя. – Ты ведь прекрасно знаешь, что Юрик нравится Марте! Она десять лет замуж выйти не может! И вот нашла, что искала, а тут ты! Зачем ты лезешь в их отношения? У тебя Димка! Дочь растет! Ни себе, ни людям! – свирепствовала она, меряя комнату нервными большими шагами.
– Я не вмешиваюсь в их отношения! – пролепетала мамаша. – Он сам... Вот, статуэтку подарил... Я ведь не просила! – в сердцах воскликнула она и вдруг удивленно заметила: – Так ведь Марта на четырнадцать лет старше Юры!
– Тебе-то какое дело?! Скажи мне: какое твое дело? Или ты собралась оставить Диму и вместе с Дусей переехать к нему в Палех? И что ты там будешь делать? Местных мужиков соблазнять? Что?
– У меня и в мыслях нет Димку бросать!
– Но ты же понимаешь – Юрка влюблен в тебя! И пока ты тут, у них с Мартой ничего не выйдет!
– А-а! Ну, конечно! Поняла, поняла! Ты бы сразу и сказала! – И мамаша, словно в лихорадке, похватала мои разбросанные по комнате одежки, бутылочки, соски, пеленки и пошвыряла их в сумку. Потом ринулась к телефону и вызвала такси.
Через полчаса я лежала в коляске на улице, а рядом стояла мама. Из подъезда вылетел Юра Макашов без пальто, в брюках и в свитере, подлетел к ней, протянув увесистый сверток.
– Подарок забыли!
– Я не возьму!
– Перестань! – И толстая тетка, несчастная от нерастраченной любви своей, оказалась в коляске, прямо у меня в ногах.

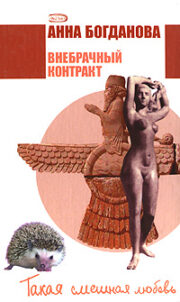
"Внебрачный контракт" отзывы
Отзывы читателей о книге "Внебрачный контракт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Внебрачный контракт" друзьям в соцсетях.