Когда я оглянулась, то поняла, что нахожусь в центре меж двух горизонтов. Я немедленно развернулась и поплыла к берегу.
По пути к дому, поднимаясь в гору, Мира пилила меня:
– Не думала я, Дуня, что ты так себя поведешь! Если б ты знала, как мы все за тебя перепугались! Зачем так далеко заплывать? Ты не представляешь, насколько это опасно! Ты бы могла попасть в воронку и захлебнуться! Что бы тогда мы сказали твоей матери? А если бы рядом оказался тюлень? Ты хоть знаешь, что их тут полно?! Знаешь, сколько людей пропало без вести! – Мира замолчала и даже после моего извинения не разговаривала больше со мной.
– Дуняш, ты бы вдоль берега, что ли, плавала! – Эта попытка Марата примирить нас с Мирой ни к чему не привела из-за моей тогдашней дури. И надо мне было ляпнуть, что вдоль берега плавать совершенно неинтересно – все равно как для канатоходца тренироваться не под куполом цирка, а по начерченной на полу линии.
После этого Мира совсем уж озлобилась на меня – разочаровалась и пожалела, наверное, о дорогостоящих мельхиоровых позолоченных столовых приборах, которые семья Нура присылала мне в бесчисленном количестве; наверняка припомнила она и тот самый кубок для вина, изготовленный непонятно из какого металла, напоминавший мне всегда чашу Святого Грааля. И вовсе не потраченные на подарки деньги она пожалела – Мира усомнилась, достойна ли я вообще называться Нуровой женой. Теперь Эльмира расскажет о моем безобразном поведении Раисе и Соммеру, и они сами будут не рады, что столь упорно (я бы даже сказала, навязчиво) звали меня в гости.
Настроение у меня было окончательно испорчено. Я шла босиком позади всех – мелкий теплый песок ласкал мои ступни. Я проклинала себя за идиотскую выходку с сарафаном и за рекордный заплыв до горизонта и обратно. И тут неожиданно ко мне подошел Варфик.
– А ты красивая! – шепнул он беззастенчиво, посмотрев мне в лицо, – ему, судя по всему, пришлось по душе, что наши с Мирой и Нуром отношения дали трещину. Кажется, он не переносил ни жену брата, ни своего шурина. – Да ты не расстраивайся, они завтра уедут, и мы с тобой опять на море пойдем! – Он улыбнулся, и его серьезное, мрачное лицо моментально преобразилось. Не только лицо его, а все вокруг стало радужным, засияло, будто я розовые очки надела и мне теперь плевать на мнение Миры и ее родителей. Я не могла не улыбнуться в ответ. – У тебя сарафан так вкусно пахнет!
– А ты что, его нюхал? – поразилась я.
– Чем-то пряным.
– Так это гвоздичный одеколон от комаров! Мне бабушка его в дорогу дала – сказала, что у моря, должно быть, всегда много комаров, потому что сырость большая вокруг него в воздухе, а комары любят сырость.
– Да нет у нас никаких комаров!
– Ну, значит, ошиблась старушка, перепутала что-то.
– В карты играешь? – в лоб спросил он.
– В «дурака» умею.
– Сыграем в подкидного на... – и он задумался. – Ну, с девушкой на деньги играть как-то нехорошо... давай на поцелуй!
– Че-его? – возмутилась я. Неслыханно! Даже Петухов себе такого не позволял!
– Если я тебя в дураках, то есть в дурах, оставлю – целую тебя в губы, – очень хладнокровно объяснил он.
– А если я тебя в дураках оставлю? – Мне было интересно, чем пожертвует он.
– Тогда ты меня в губы целуешь!
– Вот еще!
– Ну ладно, тогда я лишний раз веду тебя на море. Согласна?
– Нет, не хочу в губы целоваться, – заявила я, потому что еще ни разу этого не делала, но от подруги Люды слышала, что это довольно неприятная процедура. «Хотя, может, ни Людка, ни ее кавалер просто не умели целоваться?» – вдруг подумала я и поймала себя на мысли, что сама-то я не прочь проиграть Варфику пару конов, но – ради приличия я предложила ему невинный поцелуй в щеку.
– Это неинтересно, ну да ладно – ты ведь гостья. Из Москвы! – значительно добавил он. – А у меня дед с бабкой по отцу тоже в Москве живут.
– Правда?!
– А зачем мне врать-то?! Они туда в пятидесятых годах уехали. У них своя будка у Рогожского рынка.
– Какая будка? – удивилась я.
– Обувная. Ну, они там туфли чинят да ваксу продают.
– А-а, – промычала я.
Однако в этот вечер в карты нам поиграть так и не удалось. Стоило нам только появиться на веранде, как Нур принялся ябедничать Азе.
– И сарафан свой закинула, он полетел, мы его догоняли, – взахлеб рассказывал он. – Потом уплыла так далеко, что ее и не видно было! Мы все смотрим, а ее нет! Вышла из моря совсем не там, где вошла! – И тараторил, и тараторил.
«Какой противный! – думала я. – Его бы у подъезда посадить вместе с бабками и кулек семечек в руки дать!»
Аза ужасаться не стала, на щеках ее, словно две фары, замигали две чудесные ямочки, и она кратко изрекла:
– Голый воды не боится! – Потом, подумав, добавила: – А далеко заплывать и правда опасно – в воронку можно попасть.
Потом Арсен попросил сыновей подправить перекосившуюся калитку, Мира взялась помогать свекрови по-хозяйству, Нур – предатель и ябеда – прилепился ко мне, как банный лист. Оно и понятно – ему больше ничего не оставалось делать.
– Тебе что, Варфик понравился?
– Отстань! Ты говоришь много глупостей! – отмахнулась я.
– Понравился! Понравился! Смотри-ка, покраснела вся!
– А ты ревнуешь? – И я заметила при свете лампы, как Нурик залился краской. О, я торжествовала!
– Ты куда? – встрепенулся он, когда я поднялась с лавки и направилась в свою комнату.
– Лучше почитаю... – «чем разговаривать с глупцами» – чуть было не сказала я, но сдержалась.
Уединившись в своей новой комнате с тремя койками, я поначалу пыталась читать и, силясь вникнуть в суть «одного из самых удачных романов» плодовитой писательницы (кажется, в «Дневнике» братьев Гонкуров я прочла, что стоило Жорж Санд написать последнее предложение своего романа, как она безо всякой передышки, даже не выпив стакана чая или, скажем, кофе, хватала чистый лист бумаги и принималась за новое, очередное произведение), даже попробовала вновь читать «Консуэло» с первой страницы. Однако это ничего не дало – я больше всматривалась в междустрочия, иногда лишь обращая внимание на заглавные буквы в начале абзацев.
Потом принялась рыскать по книге в надежде найти иллюстрации, но, к моему глубочайшему сожалению и разочарованию, картинок в ней не обнаружилось, и я остановилась на самой последней странице, где были указаны фамилии редактора, художественного редактора, составителя, а также какие-то непонятные сокращения, как-то: «Усл. печ. л.», «Усл. кр-отт. л.», «Уч. изд. л.», номер заказа и гигантский тираж «одного из самых удачных романов» неутомимой французской писательницы. Эти непонятные сокращения еще больше отдалили меня от чтения, мысли в голове закружились, завертелись и никак не могли выстроиться в едином, отчетливом направлении. То вспоминался Петухов, который обозвал меня дурой на следующий же день после того, как я ознакомилась с его запиской-признанием, то мерещилась группа низкорослых мужчин, которых мы встретили по дороге к морю, то иссушенные бараны грезились в огромных, модных в этом сезоне кепках, то вдова, замотанная с головы до пят в лиловую траурную тряпку. В конце концов мне привиделся ломберный стол, на котором небрежно были разбросаны три роковые карты – тройка, семерка, туз. Я вдруг почувствовала легкий толчок под лопатку – что я, мол, проиграла! Проиграла! И мне теперь придется целоваться с Варфиком. Я открыла глаза – никакого ломберного стола с небрежно разбросанными картами, лишь здоровенная книга выдающейся романистки, выпущенная в прошлом году колоссальным тиражом. «Пора спать», – подумала я, вышла на улицу и, пожелав всем «спокойной ночи», вернулась к себе. Закрыла дверь на ключ. «Интересно, куда подевался Варфик?» – сам собой пришел мне в голову этот вопрос – на террасе под виноградником я его не увидела. Там были все, кроме него. Стало неприятно – на душе грузом повисло липкое подозрение, смешанное с недоумением и даже растерянностью. «Какое мне до него дело?» – уговаривала я себя, снимая через голову сарафан, как вдруг до меня отчетливо донесся знакомый, мягкий с хрипотцой голос:
– Когда переодеваешься – свет выключай, а то все видно!
Я судорожно задернула ситцевые выцветшие шторки на окне, метнулась к выключателю... «Вот нахал! Все видел! Какой кошмар! Позор! Наверное, специально стоял у окна и ждал, пока я раздеваться начну! А я-то, дура, сама не могла сообразить, что меня видно, как на ладони, даже из дома вдовицы в лиловой обмотке! Тут ведь ни деревьев, ни кустарников!» – Именно такие мысли крутились в моей голове, пока я на ощупь искала в красной сумке из кожзаменителя ночную рубашку. Лоб покрылся испариной стыда – я все больше и больше приходила в ужас от того, что Варфоломей видел во всей красе мое костлявое угловатое тело танцовщицы, спрыгнувшей с одноименного полотна Пабло Пикассо, написанного художником во времена увлечения примитивизмом. И плечи, довольно большие для девушки, развитые вследствие многолетней шлифовки то брасса, то баттерфляя. «Стыд-то какой! – подумала я и забралась с головой под тонкое байковое одеяло. – Интересно, а он видел мою грудь?» От этой мысли меня бросило в жар, потом в холод, потом снова в жар – и так и бросало, пока я не услышала, как за стенкой часы пробили два часа ночи и пластмассовая кукушка выпрыгнула из своего домика и прокричала дурным, механическим голоском: «Ку-ку! Ку-ку!» В этот момент, мой внутренний голос в последний раз пропел: «Позор! позор!», и я мгновенно успокоилась. «Подумаешь! Ну, видел – и видел! Я же не жирдяйка Тимохина, которая надела свой первый лифчик в третьем классе и вечно бегала в медпункт за справкой об освобождении от физкультуры, потому что с такими телесами действительно стыдно под всеобщий гогот при мальчишках прыгать через козла и лазать вверх по канату!» – очень кстати вспомнила я вредную свою одноклассницу, пятерочницу, которая сидела за первой партой, закрывая своей тушей от меня всю доску, и которая ни разу в жизни не дала никому ничего списать... Вообще она была исключительной жадиной – вечно таскала с собой пять, а то и шесть запасных шариковых ручек, но, если соседка забывала свою ручку дома и просила у толстухи, Тимохина, пораженная до глубины души, смотрела на нее выпученными глазами минуту-другую, а потом напористо так отвечала: «А я что – обязана, что ли!»
Сравнив себя, вернее, свое телосложение с тимохинским, я сразу же успокоилась, и в голову полезли мысли совершенно иного характера. А именно – о природе карточной игры (в частности, «подкидного дурака») и о роли случая, а может быть, и провидения в отношении выигрышей и проигрышей. В три часа утра (когда кукушка трижды выскочила из «домика» в соседней комнате) я размышляла о переменчивости, о слепоте капризной фортуны в отношении азартных игр. К четырем часам утра я сомневалась, что именно для меня лучше – все время проигрывать Варфику и оказаться зацелованной до смерти или все время выигрывать и не вылезать из моря? Когда за окном совсем рассвело, я пожалела, что отказалась играть с ним на поцелуй в губы!
– Какой же я иногда бываю дурой! – отчаянно прошептала я и вдруг почувствовала, что все внутри меня затрепетало, встревожилось как-то, зашевелилось. И я поняла, что влюбилась. Втрескалась в Варфика!
От этого открытия мне стало не по себе – никогда еще я ни в кого не влюблялась! Мало того, я поняла, что все это время – начиная с того момента, когда я села в самолет и была самым бестактным и наглым образом истыкана острыми коленками сидящего позади соседа, и заканчивая приездом сюда, к родителям Марата, пока не увидела юношу с увесистым утюгом в руке и «муругим» взглядом, – пребывала в состоянии томления и предвкушения, а лучше будет сказать, предчувствия любви. Пока ум мой дремал, душа и тело знали наверняка, что ждет меня впереди.
До шести утра мне все мерещились в полусне миндалевидные, искрящиеся, полные жизни и безрассудного озорства, изумрудного цвета глаза, римский нос, брови, приподнятые в удивлении (левая – выше правой), губы – чуть припухлые, с четким контуром. В конце концов нарисовался передо мной весь его образ: в светлых брюках и рубашке, застегнутой небрежно, с болтающейся верхней пуговицей. И странное дело – ночью самолеты отчего-то не летали...
Когда пластмассовая птичка-невеличка отсчитывала семь утра, я наконец провалилась в сон. Я шла куда-то, мягко ступая рядом с Варфоломеем. Мы шли посреди пустыни, впереди плескалось море, по левую руку паслось стадо исхудавших баранов, по правую – двадцать низкорослых смуглых мужчин ползали на четвереньках и жевали кактусы. Я обернулась – вдали неподвижно стояла вдова, закутанная в фиолетовую тряпку. Она что-то крикнула мне, пытаясь скинуть с себя траур. Она рвала на себе одежды, потом разделась догола, и я узнала во вдовице жирдяйку Тимохину. Круглая отличница топтала лиловые тряпки ногами и, размахивая руками, возмущалась: «А я что – обязана, что ли?»
Я медленно погружалась в сон, словно в пучину морскую, все глубже и глубже, к самому дну – так, что уже не слышала окружающих звуков ожившего дома и позывных выскакивающей каждые полчаса кукушки.

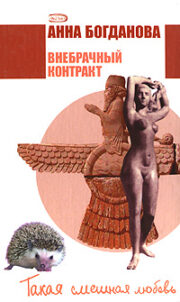
"Внебрачный контракт" отзывы
Отзывы читателей о книге "Внебрачный контракт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Внебрачный контракт" друзьям в соцсетях.