– Невелики деньги!
– Я б согласился!
– Но чтобы заниматься тренерской деятельностью, нужно самому все детство работать, в соревнованиях участвовать, и не просто участвовать, а побеждать, чтобы сначала разряды получать, а потом мастером спорта стать!
– Ерунда! Не пойду я ни на какой ремонт! – выпалил он, после чего бездельничал целый месяц.
Но зависть его стала с того дня развиваться по всем направлениям, причем была она сопряжена с жадностью. А может, он и был всегда таким, только я этого не замечала, ослепленная (как мне тогда казалось) любовью?
За обедом или ужином он оценивающим взглядом смотрел на тарелки и хватал большую порцию. Стоило мне прийти из магазина, как он кидался к сумкам и, увидев, что я купила себе какую-то обновку, требовал себе точно такую же. До абсурда дошла ситуация, когда он выкопал из пакета женские прокладки в красочной упаковке и завопил на весь дом:
– А мне?! Я тоже это хочу! Мне, значит, не надо?! Конечно! Ты всю жизнь только о себе думаешь!
Когда я популярно объяснила, что это такое и с какой целью используется, он не отступился:
– Ну и что! И мне могли бы пригодиться!
Тогда я решила, что он завидует моим критическим дням – у меня-то они есть, а у него нет!
Прожив с Дубовым восемь лет, я дала наконец себе отчет в том, что он меня отягощает – морально. Вдруг передо мной открылись все его недостатки. И самое удивительное – я поняла вдруг, что достоинств-то в нем нет никаких! Искала я в нем плюсы и сильные стороны еще полгода, но так ничего и не обнаружила, кроме вызывания жалости к его персоне.
– Ну почему меня никто не любит? Зачем я родился? Отчего меня все ненавидят? – вопрошал он в самые драматические моменты нашей совместной жизни, находясь на краю той бездны, что называется четким, режущим его ухо словом – развод.
Все меньше и меньше вызывал Геннадий у меня жалости по отношению к своей поистине никчемной персоне. Я поняла этот его трюк, поздно, правда, но лучше поздно, чем никогда, – Дубов нащупал во мне слабое место и надавливал на него при каждом удобном случае, как деревянная китайская колодка на мозоль. Он хорошо изучил меня и понял, что я могу простить все, потому что способна на чувство душевной боли при виде страдания и самобичевания близкого мне человека.
Однако всему приходит конец. Пришел он и моему чувству сострадания.
После очередного запоя (на сей раз он отсутствовал неделю) Дубов, как обычно, явился с повинной и принялся давить на жалость.
Мой взгляд остановился на гипсовой бабе работы Федора Павловича Котенкова, которая всем своим видом выражала недостаток любви в этом мире и отсутствие настоящих мужиков, подаренной Юрием Макашовым мне еще в младенчестве, и в голове вдруг зародилась нехорошая мысль – зародилась и тут же укрепилась в моем мозгу: «Вот бы ка-ак дать ему по башке этой бабой!», но я вовремя остановилась – жаль стало неудовлетворенную женщину из гипса. Я быстро оделась и, схватив Дубова за руку, потащила его разводиться. Он окончательно протрезветь не успел, да еще по дороге вылакал банку пива, поэтому, не веря в серьезность моего решения, заполнил в ЗАГСе анкету, а выйдя на улицу, прокомментировал это событие следующим образом:
– Да ладно тебе, Дуня. Я же знаю, что ты меня любишь. Просто припугнуть захотела. Воспитательша! – И он засмеялся.
Но настроение Геннадия резко переменилось, когда по приезде домой я, собрав его вещи до последнего носка, вызвала такси и через полчаса погрузила бывшего мужа в машину вместе с пожитками.
– Я не могу так сразу все шмотки домой привезти! Меня сестра с лестницы спустит! Я постепенно заберу! – кричал он в окошко.
– И правильно сделает, если спустит!
– И за что ты меня так ненавидишь?! Что я тебе плохого сделал? – театрально стонал Дубов.
– Но и ничего хорошего! – отрезала я и поднялась в свою разгромленную квартиру. – Ой! Лучше бы я за Петухова замуж вышла! Ответила бы тогда, в девятом классе, на его записку согласием, сходила б с ним в «кено»... Он куда лучше Дубова! – размышляла я вслух.
Только сейчас я заметила, насколько бездарно, пошло даже играл бывший муж, вызывая у меня жалость: «Я никому не нужен! Никто меня не любит! Зачем я вообще родился!» Вот бред-то! И как я могла ему верить?! Будто все эти восемь лет я была слепа, будто какая-то заведенная дурмашина, начиненная пальчиковыми батарейками, каждый день кормила Дубова завтраками, обедами и ужинами, стирала и гладила его одежду, покупала ему трусы с носками, потому что он считал осуществление подобных покупок в магазинах ниже своего достоинства, работала и содержала нашу неполноценную ячейку общества. Неполноценную, потому что по прошествии пяти лет нашей совместной жизни, после ряда определенных анализов супругу моему был поставлен андрологом – Бодягиным Валерием Николаевичем – диагноз.
Диагноз звучал резко, как приговор, вынесенный судьей после слушания уголовного дела – секреторное бесплодие, так он звучал. И на оторванном от листа половинном клочке бумаги, будто клеймом на теле, было выжжено – секреторное бесплодие.
Вдобавок ко всему этому зависть – зависть по любому поводу, которая выражалась со стороны Дубова в невероятно громких скандалах. А эти периодические сбои – раз в два месяца ему непременно нужно было расслабиться, отключиться от тяжелой жизни ремонтника-маляра и пропасть неизвестно куда на неделю, кануть, исчезнуть. Что он делал в это время? Кто его знает, но он приходил с повинной, божился, что не изменял мне, подтверждая свою искренность обычным своим:
– Дуня! Ну ты сама-то подумай, кому я нужен? И вообще, зачем я родился – весь такой никому не нужный! – едва не плача, говорил он.
И я верила! Каждому слову верила! Дура, конечно! Но – нет! А чего от меня хотеть?! Я ведь искусственница! Неполноценный ребенок, оторванный пяти недель от роду от материнской груди! Да еще бегемот посодействовал – последние мозги своим неприличным актом в Московском зоопарке четверть века назад вышиб!
И вдруг – все! Баста! Батарейки сели! Сели – и я тут же развелась с Дубовым.
После этого наиважнейшего события моей жизни меня словно в розетку включили. Первым делом я уволилась с работы. Менять жизнь, так менять ее в корне – решила я и взялась собственноручно делать ремонт в квартире: я опасалась, что опять найму каких-нибудь шарлатанов и они еще больше испоганят и без того разгромленную, доведенную до крайности жилплощадь мою. Я, увлеченная до самозабвения благоустройством комнаты, в болезненном экстазе сдирала ядовито-зеленые обои в шизофреническую узкую полоску, от которой в глазах рябило и которая потом три ночи подряд неотступно снилась мне в кошмарных снах. Размывала пожелтевший потолок с лохмотьями старой водоэмульсионки, шпатлевала, грунтовала, красила, клеила...
И все это время в голове моей всплывали из глубин подсознания смутные воспоминания – они поначалу были бесцветными, полинялыми, точно много раз постиранное и вывешиваемое на солнце ветхое ситцевое платье. А некоторые, некоторые из них всплывали и вовсе черно-белыми, и люди в них так чудно передвигались – в сто раз медленнее, чем в жизни. А говорили, говорили они тоже крайне странно – они так растягивали слова, что сразу невозможно было понять, что они хотят сказать.
Но в один день – я помню, в этот день впервые за весь июль солнце прорвалось сквозь тучи и озарило комнату бежево-фиолетовым, необыкновенным сиянием... В тот день я уже закончила с кухней, и комната была почти готова – остались коридор и ванная. Совсем пустяки по сравнению с тем, что было сделано! Так вот, в этот день воспоминания мои вдруг стали такими яркими, как и те события, о которых они повествовали, но на самом деле имели более пастельные тона.
Он – мой принц – стоял перед глазами, как живой: бронзовый загар его особенно хорош и контрастен был со светлыми одеждами! Миндалевидные, искрящиеся насыщенно-изумрудные глаза. Римский нос – крупный, правильной формы, с горбинкой. Дугообразные брови, приподнятые в удивлении, и левая – выше правой. Чуть припухлые, четко очерченные губы – не то что у Дубова, размазанные под носом, говорящие о его слабоволии и тупом упрямстве. Все в нем – в этом юноше – было гармонично, начиная с густых, волнами набегавшими на чистый округлый лоб каштановых волос до ступней с пастельно-розовыми ногтями, которые виднелись в открытых носках его сандалий. Он смотрит на меня исподлобья, а в руке держит увесистый утюг.
...Белый домик с плоской крышей и террасой с увитым виноградом потолком...
...Бледно-желтый, почти белый, так похожий на снег, искрящийся песок под ногами, впереди – зеленоватое море плещется в гигантском котловане, создаваемом Природой веками и тысячелетиями...
...Стадо баранов – тощих, грязных, иссушенных под беспощадным солнцем Каспия, от которого у меня на плечах до сих пор остались конопушки...
...Поцелуй по дороге к морю. Мы с Варфиком стоим без обуви на горячем песке. Он обнял меня за талию, приник к губам... Ах! Что это был за поцелуй! Голова идет кругом и теперь! Никто! Никто и никогда не встречался мне за всю жизнь, кто умудрился бы сделать это лучше ассирийского принца: ни Толя Зуев – очень сознательный пожарный, который не мог равнодушно пройти мимо дымящейся урны и не потушить ее, если можно так выразиться, подручным способом. Ни Макар Петрович Кокардов – мой капитан дальнего плавания, который до сих пор наматывает круги на своих «Горных вершинах» и никак остановиться не может. Ни боксер-тяжеловес Иван Дрыков, который, собственно, и разгромил мою квартиру в честной борьбе с омерзительным Гариком Шубиным. Ни Геннадий Дубов – бывший муж, который только и делал, что спекулировал восемь лет на моей повышенной от природы жалости к окружающим, завидовал мне и даже на пол кидался и ножками сучил оттого, что ему женских прокладок не досталось. Никто, никто не умел так целоваться, как Варфоломей! Я даже чуть со стремянки не рухнула, когда вспомнила свой первый поцелуй, – насилу удержалась, зацепившись за книжные полки.
Собственная голова к полудню напоминала мне огромную кастрюлю, в которой, кипя, разбухали переваренные макароны. Каждая из них – отдельное, полноценное воспоминание. Я намазываю клей на кусок обоев и стараюсь выудить нужную макаронину. Есть! Вот она! Это воспоминание касается нашей последней встречи с Варфиком.
По приезде с Каспийского моря я была сама не своя, и все домашние, конечно, не могли не заметить этого.
– Ты что, правда, что ли, в ушастика Нура влюбилась? – допытывалась мамаша.
– Девочка совсем ничего не ест! Ужас какой-то! Я знала, что эта поездка ни к чему хорошему не приведет! Говорила я вам?! Говорила? – Бабушка № 1 изо всех сил пыталась восстановить истину. – Чуяло мое сердце, что с ребенком что-нибудь нехорошее произойдет! – сквозь слезы провыла она.
– Что с ней такого ужасного-то произошло?! – не выдержала мама. – Что она в шестнадцать лет влюбилась?
– Ничего я не влюбилась, – пробормотала я смущенно.
– А то, что ребенок от еды отказывается, это, по-твоему, нормально? А что ее тюлень оцарапал – это тоже пустяки?
– В общем-то, да, – спокойно отозвалась мамаша. – Она ведь вчера ходила в поликлинику – врач сказал, что ничего страшного.
– Ага, ага! Как же! – Баба Зоя эмоционально закивала головой – мне даже показалось, что ее черепушка вот-вот оторвется от шеи, свалится на пол и покатится, подпрыгивая по лестнице, во двор. – Что они знают, врачи эти! Это надо же – тюленя с оленем перепутать! – негодовала бабушка, а я, воспользовавшись их ожесточенным спором, улизнула из квартиры, как ошалелая, сбежала вниз, трясущейся рукой открыла почтовый ящик, надеясь обнаружить в нем письмо от любимого. Я теперь по нескольку раз в день открывала его, шарила ладонью по холодному металлу – я ждала письма, ждала с нетерпением, с болезненным каким-то азартом, высчитывая дни – сколько времени нужно для того, чтобы письмо принца доставили по назначению. На четвертый день моего пребывания дома я, в очередной раз пошарив рукой в почтовом ящике и ничего в нем не обнаружив, впала в уныние. Вернее, поначалу я испугалась, что Варфик мне вовсе не напишет никакого письма, а потом тоска навалилась на меня сырым, отяжелевшим, точно промокшим насквозь под дождем, одеялом.
Однако, к моему великому счастью и ликованию, любовное послание от него я все же получила – через две с половиной недели, где принц не только признавался мне в любви, клялся в вечной верности и в каждом абзаце вспоминал то мои бархатные руки, то загадочную улыбку на устах, то прекрасные золотые косы, то... Впрочем, это совсем неважно – что он там припоминал в каждом абзаце. Главное – во всем этом письме было одно наиприятнейшее и фантастическое известие. Пятнадцатого сентября Варфоломей обещал приехать в Москву – ненадолго, всего на несколько часов. Перед армией родители снарядили его к близким родственникам, которые жили в Питере, а Варфик, помимо этих самых близких родственников, изъявил желание повидаться с дедом и бабкой, которые имели в Москве у Рогожского рынка свою обувную будку. Конечно, это был предлог, и Аза с Арсеном поняли сразу, отчего сына так потянуло в Москву, но запретить они ему этого не могли. Короче, Варфику было дано полдня, чтобы прижать к сердцу бабку с дедом, а заодно и меня.

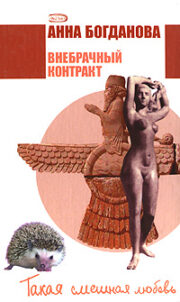
"Внебрачный контракт" отзывы
Отзывы читателей о книге "Внебрачный контракт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Внебрачный контракт" друзьям в соцсетях.