Все уже было готово – билет на самолет куплен, клетчатый чемодан, собранный, стоял в коридоре, большая красная дорожная сумка из кожзаменителя была до отказа набита подарками – электрошашлычницей и пельменеделкой; острия шампуров вылезали сбоку, в незакрывшейся до конца «молнии», поражая воображение своими гибкими, длинными, словно клинки рапир, связанных где-то в глубине сумки крепкой веревкой, остриями. Они казались чрезвычайно воинственными. Но как раз, когда все было приготовлено к моему отъезду, когда мамаша протянула мне на все про все червонец, велев при этом тратить его с умом и не разменивать вовсе, если не возникнет особой надобности, и который я все же разменяла в дальнейшем, купив в захолустном магазинчике, уютно расположившемся посередине – между аулом на горе и раскинувшимся морем внизу, – стеклянный резной флакон дезодоранта, сделанный под хрусталь, с вызывающим цветочным запахом (за два рубля восемьдесят копеек), после чего долго, но тщетно стояла у прилавка, получив сдачу семь рублей и ожидая остальные двадцать копеек. Ждала молча и терпеливо, но через пятнадцать минут, поняв, что никто не собирается возвращать мне двадцать копеек, вышла, наконец, оттуда, чувствуя себя оплеванной, обманутой и оскорбленной. Если б я попала в такую ситуацию лет десять спустя, я, конечно, не стала молча ждать сдачи, я бы, несомненно, выразила вслух свое недовольство. Но тогда, в шестнадцать лет, как уже было сказано выше, я была слишком замкнута, чтобы высказать досаду и негодование совершенно незнакомому человеку, каким явился в тот момент для меня продавец дезодоранта, муки, душистого мыла и шафрана, в огромной круглой кепке, которая, казалось, могла бы запросто послужить взлетной полосой для летательных аппаратов, и огромным носом с горбинкой, что напомнила трамплин высокой крутой горы, с коей в детстве я, пренебрегая опасностью, со свистом стремглав летела вниз то на лыжах, то на санках. Оставшиеся деньги тратить я не рискнула и, к удивлению мамы, вручила их ей по приезде, боясь, что, купив какую-нибудь безделицу за пятьдесят копеек, не досчитаюсь рубля, и таким образом дебет не сойдется с кредитом, и финансовый отчет об истраченной десятке полетит в тартарары.
Так вот, когда я, бережно свернув червонец, убрала его в кошелек, щелкнув замком, бабушка № 1 выразила удивление, недоумение, а потом и протест по поводу того, что ребенок неизвестно зачем и не понятно к кому едет, бог знает куда:
– Что ж это такое! Говорила ведь зимой – Матрен, надо уже сейчас подумать о даче в Хаврюшкино, нужно договориться заранее о съеме на лето! У Дуни там и подруга живет! Как бишь ее зовут-то? А, Дунь?
– Люда, Люда ее зовут.
– Вот Людины родители поумнее тебя, Матрен, оказались – купили там домик, и у них каждое лето не болит голова, где бы ребенку их отдохнуть! А ты даже снять не могла в этом году. «Успеется! Успеется!» – передразнила она мою мамашу. – Вот летний сезон пройдет, я там тоже домик куплю! Сама займусь этим вопросом! Сама! – кричала бабушка – она была вне себя, но надо отдать ей должное – домик в деревеньке Хаврюшкино баба Зоя умудрилась приобрести спустя несколько месяцев за смехотворно низкую цену; в дальнейшем мы с Людкой стали соседями и проводили лето вместе, что еще больше укрепило нашу дружбу. – Кому только рассказать! Ее ж похитят! – причитая, продолжала возмущаться она, напрочь забыв, что идея о моем отдыхе принадлежала не кому-нибудь, а именно ей. – Не пущу! Ни за что! – вопила она, усевшись на собранный в дорогу клетчатый чемодан. Мама со злостью схватила красную сумку с воинственно выглядывающими из нее шампурами и, поставив ее рядом со мной на лестничную клетку, с силой вырвала чемодан из-под бабушкиного зада. – Дусенька! Свидимся ли еще? Как знать! Дусенька! – стонала баба Зоя, но, вероятно, не от разлуки со мной, а от неожиданного удара мягким местом об пол.
Мама яростно захлопнула дверь и, запихнув меня на заднее сиденье такси вместе с поклажей, сама расположилась рядом с водителем.
В аэропорту мы первым делом встали в очередь, дабы сдать багаж. И тут к нам подошел низенький человек в точно такой же огромной круглой кепке, какая красовалась на голове обманщика-продавца, не имеющего привычки давать сдачу, и длинным носом, загибающимся вниз, под самое основание густых иссиня-черных усов, похожих на перевернутую вверх тормашками омегу – букву, исключенную из русского алфавита в 1708 году, когда первый наш русский император Петр Великий произвел реформу печатного кириллического полуустава. Подошел и попросил оформить часть его багажа на мое имя.
– У вас всего два мест! – с некоторым удивлением воскликнул он и, гордо указав на свой багаж, вытянувшийся в длину метров на пять, и где не хватало одной только собачонки, которая, если б была, то за время дороги могла бы подрасти, если верить С.Я. Маршаку, добавил: – А у меня во сколько! Во! И это мое!
И он ткнул указательным пальцем на огромную коробку с телевизором,
кальян,
чемодан,
саквояж,
картину,
корзину,
картонку...
Не хватало лишь маленькой собачонки!
– А это что у вас? Киньжали? – спросил он, с любопытством уставившись на чрезвычайно устрашающие острия шампуров, и категорично заявил: – Не примут! Точно не примут! Это острый колющая предмета!
– Спасибо, что предупредили, – поблагодарила я незнакомца и вытащила из сумки шампуры. У родительницы моей в этот момент сердце сжалось, душа ее жаждала подвига, и она с радостью согласилась записать добрую половину чужого багажа на мое имя, дабы маленькому человечку в блинообразной кепке не пришлось платить за лишний вес своих вещей.
– Спасибо, спасибо, спасибо! – взахлеб повторял он – такое впечатление, будто устанавливал новый рекорд произнесения слова «спасибо» на скорость. Немного успокоившись, но все еще чувствуя себя нашим должником, он, внимательно оглядев меня с головы до ног, заявил восторженно, обратившись к маме: – Очень красивый у вас сестра! Очень! И не будь он такой косой, я бы женил на ней младшего сына! Спасибо! Спасибо! Спасибо! – торопливо пролепетал он и растворился в толпе.
– Я?! Я – косая?! – запинаясь, уж как-то слишком возбужденно терзала я мамашу, которую восточный человек, путаясь в окончаниях мужского и женского рода, принял за мою старшую сестру.
Она открыла было рот, но я метнулась от нее прочь и, подлетев к первому попавшемуся зеркалу, с беспокойством рассматривала свои очи, глядя то вправо, то влево, то фокусируя взор на носу. Успокоившись, что никакого косоглазия у меня не наблюдается, я обозвала незнакомца дураком (конечно, не вслух – я была слишком замкнутой и воспитанной девушкой, чтобы позволить себе произнести даже такое безобидное ругательство, как «дурак», во всеуслышание) и, воспользовавшись тем, что стою у зеркала, принялась рассматривать себя.
Нет, я никогда не приходила в восторг от своего внешнего вида!
Фигура у меня какая-то странная, будто все углы, которые существуют в геометрии – прямые, острые, тупые, – собрали воедино, и из них соорудили то, что (вернее, кто) называется Дуней Перепелкиной: колени, плечи, локти, бедра даже, не говоря уж о груди. Каждую часть моего тела наверняка можно измерить транспортиром, если бы, конечно, кому-нибудь пришло в голову изготовить сей чертежный прибор размером в человеческий рост.
Лицо тоже несуразное, нелепое... Хотя все его черты по отдельности имели правильную форму – взять, к примеру, нос, или губы, или все те же глаза, которые окружающим кажутся косыми именно по той причине, что им нужно было бы смотреть на этот мир не с моей, а с чьей-то совершенно другой мордашки. Такое впечатление, что и нос перепрыгнул на мою физиономию с лица гречанки, жившей двадцать два века тому назад, и только и делал, что нюхал маринованный чеснок (излюбленное лакомство древних греков) в Пергамском театре. Губы хоть и не думали ухмыляться, казалось, постоянно чему-то загадочно усмехаются – подобно запечатленной Леонардо да Винчи в 1503 году улыбке Моны Лизы, которая и по сей день не дает покоя тысячам светлых умов мирового масштаба. Глаза, совершенно не подходившие ни к пшеничному цвету волос, отливающих на солнце золотом, ни слишком уж какой-то неестественно белой прозрачной коже, были темно-карими, но, надо заметить, не косыми. Густые золотистые косы, вероятнее всего, я унаследовала от бабушки № 2, что вечно сушились на батарее и прикалывались к ее голове в самых исключительных случаях. Сами по себе волосы удивительно хороши, но к моему лицу они совершенно не подходили, и ничего тут нельзя было поделать – ни «корзиночка», ни «рогалики», ни косы, повисшие параллельно моим необычайно маленьким ушам двумя толстыми канатами, ни распущенные – они мне совсем не шли. Если говорить о бровях, то они имели очень красивую форму «вразлет», но совершенно не гармонировали с остальными чертами лица. Я не раз думала о том, что физиономия моя – не что иное, как шутливый коллаж, воплощенный в жизнь самой Природой. Для завершения образа Натура заменила сидящее за столом с персиками девичье туловище кисти В.А. Серова костлявым угловатым телом танцовщицы, спрыгнувшей с одноименного полотна Пабло Пикассо, написанного им во времена увлечения его примитивизмом.
Сразу замечу, что мнение окружающих по поводу моей внешности коренным образом отличалось от моего собственного – они не считали меня уродиной, собранной будто бы из разных детских конструкторов на скорую руку. Не находили, что в меня уж совсем никто не может влюбиться, как думала я в то время, когда у сверстниц и одноклассников наступил период любовных записок, так называемой игры в «гляделки» и походов в кино. Мне, сидевшей у окна за второй партой, перед концом учебного года тоже пришло послание с последней парты третьего ряда у стены – от Вадика Петухова, где он признавался, что любит меня. Так и написал, выдрав лист из тетради по русскому языку:
«Перепелкина! Я тебя люблю.
Пошли после уроков гулять или в кено».
Гулять я с ним не пошла, о «кено» даже думать себе запретила, а после последнего урока, будто сорвавшись с цепи, полетела, как угорелая, домой. Я, конечно, не поверила хулигану Петухову, ожидая от него какого-нибудь подвоха на прогулке или сидя на последнем ряду в темном кинозале, и все из-за того, что я вбила себе в голову, что я слишком страшная и в меня никто – даже Вадик Петухов – не может влюбиться. К подозрительности и неверию в моей душе примешалось еще одно очень странное, будоражащее и необъяснимое чувство – не могу сказать, что оно было мне неприятно: стоило только вспомнить конопатую наглую морду Петухова, как мне немедленно хотелось сделать что-то до крайности нелепое и в высшей степени глупое – например, выпрыгнуть из окна или закричать на всю улицу все равно что.
– Да никакая ты не косая! У меня тоже так было в твоем возрасте, когда я, бывало, задумаюсь и смотрю в одну точку, – утешила меня мама, крепко сжимая в руке «букет» из шампуров, и в этот момент объявили посадку на мой самолет.
Через полчаса я уже созерцала в иллюминаторе пышные, на вид созданные из тягучего воздуха то белые, то серые облака, героически снося пинки в спину, которыми пассажир, сидевший сзади, время от времени пришпоривал меня, будто побуждая к движению, яко упрямую, непослушную клячу. Я проклинала его в глубине души, пытаясь сосредоточиться на судьбе юной Консуэло, я летела к морю, не ведая того, что еще помимо моря ждет меня на отдыхе и какой сюрприз мне уготовила судьба, снова достав меня из своего кармана, подобно носовому платку, дабы оставить на нем свой знаменательный след.
А еще через полтора часа, когда самолет приземлился и, проехав по взлетной полосе (не знаю, сколько метров), остановился, тот самый осел, что излягал ногами мою бедную спину, вдруг сказал мне на ухо – ехидно так:
– Дэвущка, а дэвущка! Крэсло-то нужно было поднять!
В аэропорту, на высохшей земле с колючками и занятными, то там, то сям разбросанными нежно-лимонными цветками с тонким запахом и мягкими, словно плюшевыми, листьями с серебристым налетом, растениями стояли красавец Марат и Нур с оттопыренными крупными ушами.
Я обернулась – за мной, словно тень, неотступно следовал незнакомец, багаж которого был оформлен на мое имя. Получив саквояж, картину, корзину, картонку, он искрящимся взглядом посмотрел на меня и, сказав:
– Очень, очень красивый девушка! Жаль, что косой! – принялся пересчитывать свои поклажки.
Марат всю дорогу объяснял, почему в аэропорт меня не приехали встречать остальные члены семьи:
– Эльмира с Соммером на работе. Эльмира хотела отпроситься, но ничего не получилось. А Раиса поджидает тебя дома. Варит дохву, праздничную харирсу даже затеяла, хасыда уже готова и трехцветный пирог, – расписывал он, в то время как Нур глупо улыбался, пытаясь вставить в его бурную речь хоть словечко.
Но Раиса встретила меня отнюдь не хасыдой. Она долго не открывала дверь, а когда наконец открыла, то предстала перед нами в грязном рваном халате, сжимая в левой руке большую жестяную банку из-под сельди иваси, в которую была налита белая масляная краска, а между верхней губой и носом она едва удерживала кисть.

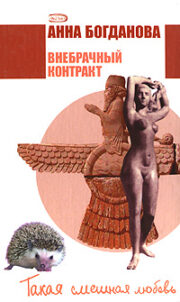
"Внебрачный контракт" отзывы
Отзывы читателей о книге "Внебрачный контракт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Внебрачный контракт" друзьям в соцсетях.