– Останься и договаривай, проклятый! – закричал Мартино, подбегая к нищему и хватая его за одежду, внушавшую отвращение.
– Господин советник, я вижу, что прямодушие подвергает большим опасностям и что вы не совсем благосклонно поступите с тем, кто вам скажет правду.
– Даю тебе слово отпустить тебя и еще дать тебе луидор, если выскажешься скорее…
– Насчет того, что всегда хочется узнать? – подхватил нищий со злобной улыбкой.
– Речь идет о госпоже Мартино?
– Ничто не может сравняться с ее христианским милосердием; во всем Сент-Антуанском квартале раздаются благословения и благодарственные похвалы ей. Однако, несмотря на общую преданность, случается иногда услышать о лучших людях страшные вещи.
– А что это за вещи?
– Говорят, что, не удовлетворяясь спокойной и постоянной любовью молодого мужа, который всеми считается за олицетворение чести и благородства, она находит и тайные наслаждения.
– Негодяй! Как ты смеешь…
– Я только повторяю.
– И это коадъютор подсылает тебя?
– Господин коадъютор знает отвагу и предприимчивость госпожи Мартино, знает, что она связана дружескими отношениями с некоторыми знатными дамами двусмысленной репутации, знает он все это и в своей любви и преданности вам боится, чтобы не подействовал дурной пример на ту, которую прежде называли образцом добродетельной жены.
Советник вне себя от печали и отчаяния хотел схватить за горло бессовестного клеветника, но тот отступил от него и выставил обе руки перед его глазами. Эти руки были до того ужасны, покрыты язвами, струпьями и грязью, что вид их остановил несчастного мужа.
– Договаривай же, проклятый, договаривай!
– Извольте, если вам это угодно. Господин коадъютор советует вам получше присматривать за поведением прекрасного юноши, который с некоторого времени часто посещает вас.
– Какой это юноша?
– Господин Жан д’Эр.
– Жан д’Эр? Не может быть, это честнейший человек в мире.
– Этот лотарингский рыцарь – самая безнравственная душа, готовая на всякое бесчестье, – сказал нищий с сердечным сокрушением о чужих грехах. – На его совести лежит много тяжких грехов; надо опасаться, что он станет со временем развратнейшим вельможей при дворе, если только не последует вскоре заслуженная им казнь или не выгонят его.
– Но герцогиня Монпансье и его высочество герцог Орлеанский оказывают ему великое доверие.
– Это только доказывает, что его хитрость равняется его злобе.
– Нет, нет, это неправда; тебя не посылал коадъютор с этим поручением, и я не понимаю, что за цель…
– У господина кардинала нет другой цели, как только быть вам полезным. Кроме того, он дал заметить, что госпожа Мартино давным-давно…
– Кончай, змея, выпускай весь свой яд!
– …в самых лучших отношениях с герцогом Бофором.
– Давным-давно!..
Тут уж советник не вытерпел и, забыв все отвращение, которое внушала ему гнусная наружность нищего, бросился на него, но злобный вестник проворно отворил дверь и со всех ног бросился через все комнаты к выходу. Мартино догнал его на лестнице, но тут, при виде сбежавшихся слуг, он оправился и, вынув из кармана луидор, бросил его вслед бежавшему.
– Возьми, негодяй, ты забыл о вознаграждении, – закричал он.
Но нищий бежал без оглядки прямо за ворота и скоро исчез из вида.
«Денег не взял, – подумал советник, – нет, это не нищий».
В глубоком раздумье ушел он в свой кабинет. Взволнованный, терзаемый мучительными сомнениями, опустился в кресло перед конторкой, думая про себя, что переданная ему весть может быть основана на истине.
Долго сидел Мартино под гнетом невыносимой печали, погруженный в какую-то тяжелую дремоту. Он облокотился обеими руками на конторку, опустив на руки голову. Горячий поцелуй на руке вдруг пробудил его.
– Генриетта! – воскликнул он.
– Боже мой! Что с тобой, Арман? У тебя глаза полны слез!
Советник оглянулся и, увидев герцогиню Лонгвилль, вошедшую с его женой, хотел было встать и поклониться ей, но силы оставили его и голова его упала на руки.
– Любезнейший Мартино, – воскликнула герцогиня, подбегая к нему и ласково кладя руку на его плечо, – вы знаете, что я готова все сделать для вас.
– Ах! Герцогиня, ни вы и никто другой не может устранить причину моей горести, которая проникла в самые тайные изгибы моего сердца, подрылась под основание даже моей жизни…
– Боже мой! Что же такое случилось? Арман, говори же!
– Ах, герцогиня, я самый несчастный человек в мире! Она меня разлюбила!
– Я? Я разлюбила тебя? – воскликнула Генриетта и, схватив обеими руками его голову, покрыла ее поцелуями. – Я разлюбила тебя! Но кто же осмелился произнести такую ложь?
Мартино тряхнул головой, как бы прогоняя недобрые мысли, и, схватив руку жены, крепко пожал ее.
– Ты права! Это была ложь, и я совсем обезумел.
– О! Вы можете полностью доверять ей! – воскликнула герцогиня в великодушном порыве.
– Простите меня, герцогиня, что я сделал вас свидетельницею смешной сцены и моей глупой слабости.
– Мне простить вас? Ах! Господин Мартино, вы мне доставили счастье присутствовать при зрелище искренней любви чистых сердец, каковы ваши… О! Зачем Господь не дал и мне подобной участи? Зачем я не знаю таких чистых радостей? Два сердца, соединенные законным союзом и любящие друг друга глубокою, чистою любовью – о! Друзья мои, ведь это небо, это уголок рая открывается перед моими глазами.
Дверь отворилась, и вошел Гонтран-Жан д’Эр.
Мартино побледнел, и Генриетта, державшая его за руку, чувствовала, как его рука задрожала.
– А, понимаю, – прошептала она.
Советник выразительно пожал ей руку и с улыбкой подошел к молодому человеку.
– Очень рад видеть вас, друг мой, – сказал Мартино, делая ударение на последнем слове и протягивая ему руку с таким достоинством во взгляде и осанке, что Гонтран был поражен.
– Предупреждаю вас о прибытии ее высочества, – сказал он, покраснев, но дружески пожимая протянутую ему руку.
Почти вслед за тем вошла герцогиня Монпансье.
– Ах! Как я рада, что вы здесь, милая кузина, – сказала принцесса, обнимая герцогиню Лонгвилль. – Теперь наши дела пойдут скорее.
– Что такое? – спросил советник.
– Я знаю все о происшествии, поэтому-то вы и встретили меня здесь, – отвечала герцогиня Лонгвилль. – Я получила письмо от брата. Он указывает, какие меры принять для того, чтобы все партии, поклявшиеся погубить Мазарини, соединили свои усилия так, чтобы разом сокрушить общего врага. Дело доходит до шпаг и пушек, а в этой игре, как вам известно, у принца Кондэ нет равного.
– Мы овладели городом, и мой отец избрал герцога Бофора губернатором Парижа.
– Прекрасно, но опасность не в Париже, а в Орлеане.
– Как в Орлеане? – воскликнула принцесса.
– Орлеанцы преданы его высочеству, а кардинал Мазарини решил завладеть городом. Если Орлеан будет взят, то это произведет самое бедственное влияние на судьбу наших друзей, великих и малых.
– Мой отец поедет в Орлеан, – сказала принцесса утвердительно.
– Хорошо, но при этом необходимо, чтобы его сопровождало войско.
– А если его высочество станет колебаться по своей привычке?
– У нас готовы полки.
– Он не станет колебаться; на этот раз я ручаюсь за него.
– Но это еще не все: вы должны помочь нам уговорить господина Мартино.
– Что такое? – спросил он.
– Любезный Арман, – сказала советница, взяв его за руку, – парламент вынес приговор Мазарини – под страхом смертной казни оставить Францию. Но этого мало. Парламенту следует принять меры более действенные. Должно объявить кардинала мятежником и оценить его голову.
– Разумеется, парламент согласится, – подтвердил советник.
– Мы и не сомневаемся, но надо же кому-нибудь, за отсутствием Брусселя, взять на себя труд предложить это…
– Вот мы и рассчитываем на вас, – подхватила герцогиня Лонгвилль.
– Как! На меня?
– Вы представите все аргументы и произнесете красноречивое заключение.
– Но как же это можно?…
– Не только можно, но и должно.
– Вы ничего не понимаете! – воскликнул советник. – Я член верховного судилища, я друг законов, моя обязанность изучать науку права и верного суждения. Вам всем известно, что не мое дело вмешиваться в политику.
– Тем лучше.
– Я – фрондер и не скрываю того, что душевно радуюсь изгнанию Мазарини, который нанес много оскорблений достоинству судебного управления, насадив в самый центр его свою креатуру. Но из этого еще не следует, что я должен становиться во главе партии, как это сделал наш бедный Брус-сель.
– И не становитесь. Это слишком тяжелая обязанность для вас! – воскликнула хорошенькая советница, весело засмеявшись.
– Вы ошибаетесь, милая моя, – сказал муж. – Понуждаемый принудительными мерами, Бруссель сделался на минуту начальником оппозиции двору; но эта честь досталась ему только силой его ревностного желания защитить народ от новых налогов. Я же пришел бы в отчаяние, если бы меня, против моего желания, провозгласили начальником мятежа.
– Друг мой, вы это сделаете из любви ко мне, – сказала госпожа Мартино, взяв его за руку.
– Из дружеской преданности нам, – умоляли принцессы.
– Вы сами не захотите, чтобы всюду заговорили о том, что у советника Мартино недостало мужества для защиты законного дела. И это в то время, когда глаза целого Парижа обращены на него.
– Как это? И почему целого Парижа?
– Да, целого Парижа. На вас возлагают надежды, ваше имя провозглашается в толпах, вас призывают на парижских рынках.
– Господи! Да что же это такое?
– Сами видите, отступать теперь поздно.
– Бруссель тоже не мог отступить, а что из этого вышло?
– Его заключение в Бастилию? Но сейчас совсем другое дело: Парижем управляют его высочество герцог Орлеанский и герцог Бофор. Бастилия в наших руках.
– Вы этого хотите непременно?
– Ну, я так и знала, он наш! – сказала Генриетта, обнимая мужа.
– Генриетта, если ты видела меня до сих пор другом тишины, науки и уединения, так это потому, что все мои надежды и мысли покоились на тебе; заботы о других делах могли отвлечь меня от тебя.
– Это прекрасно, но вы сейчас же поедете в ратушу.
– Сегодня нет заседания.
– Парламент созван по случаю чрезвычайно важных обстоятельств, в настоящую минуту собрались уже все его члены, недостает только вас.
– О! Женщины! Женщины! – воскликнул Мартино, подняв руки к небу.
– Одевайтесь же, карета готова.
– Она все предвидела!
– Да не забудьте воткнуть в шляпу вот эту вещь, – сказала герцогиня Монпансье, всунув ему в руку пучок соломы, который вынула из шляпы Жана д’Эра, наполненной такими пучками.
– Это что такое?
– Это символ единения верных.
Советника провожали до ворот обе дамы, не переставая убеждать действовать энергично.
– Мне трудно только решиться, а раз взявшись за дело, я не знаю колебаний, – сказал он.
– Нам тоже надо отправляться, – заметила принцесса, – нельзя терять и минуты, если мы хотим содействовать решению парламента. Рынки поставлены на ноги, студенты спускаются с Сент-Женевьевской горы, Бофор ждет их на Гревской площади. Недостает только Сент-Антуанского предместья.
– Понимаю. И готова, – сказала Генриетта.
– Весь Париж должен быть с пучком соломы на головах. Все, кто может держать оружие, должны готовиться пойти навстречу войскам, которые Мазарини высылает против нас.
– В случае победы нашей стороны, что мы будем делать с Мазарини? – спросила Генриетта.
– Колесовать его на Гревской площади! – воскликнула принцесса восторженно.
Глава 7. Любовь болтлива, ненависть бдительна
В ту минуту, когда Мансо, закутавшись в плащ, в сопровождении толпы друзей спускался с крыльца ратуши, на Гревскую площадь въехала телега, нагруженная соломой.
– Смотрите-ка, друзья, – сказал Мансо, – тут соломы довольно, чтобы весь Париж нарядить. Вперед! Берите воз приступом.
Вмиг все снопы были схвачены и пошли по рукам: кто раздергивал, кто тормошил их.
Крики хозяина разграбленного воза возбуждали только общий смех. Да и Ренэ, узнав его, отошел в сторону и смеялся от души вместе с другими.
Мансо тоже узнал хозяина воза, не обращая внимания на его отчаянные крики, спешил дружески пожать ему руку.
– Здравствуй, Томас, – сказал он.
– Э! Да это никак ты, Жак? Разве ты не в Шарантоне?
– Сейчас оттуда и совершенно здоров, заверяю тебя.
– Тем лучше. Но признаюсь, лучше было бы еще посидеть в Шарантоне, чем помогать этим разбойникам разорять меня; ведь я заметил, что ты первым бросился разгружать мой воз.
– Справедливость требует, чтобы мазаринисты расплачивались за разбитые горшки. Будь ты с нами, не орать бы тебе теперь во все горло.

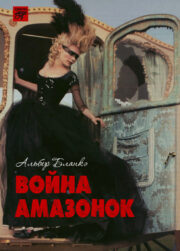
"Война амазонок" отзывы
Отзывы читателей о книге "Война амазонок". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Война амазонок" друзьям в соцсетях.