– Герцогиня, по вашей милости я буду страдать бессонницею.
Герцогиня Монбазон позволила ему целовать свои руки, сколько он хотел и наконец, отошла от него с самым спокойным видом. Она сумела на этот раз скрыть страшную бурю, которая накопилась в ее душе от разнородных чувств ненависти и ревности.
«Коадъютор прав, – думал Гастон, оставляя ратушу, – ревность соперницы редко ошибается. К счастью, коадъютор бодрствует не хуже ее, и я надеюсь, что оба без меня сумеют помешать этому повесе наделать мне хлопот и… Но все равно, что бы там ни было, а какая тоска ехать в Орлеан!»
Он сходил с парадной лестницы, за ним шла принцесса, опираясь на руку Бофора. Посреди суматохи, всегда сопровождавшей явление Гастона, герцог успел ей шепнуть:
– Не позволяйте герцогине де Монбазон приближаться к вам, или вы погибли.
Герцогиня Монпансье посмотрела на него со спокойною самоуверенностью, никогда не покидавшей ее, и села в карету рядом с отцом.
Глава 12. Ведро и виселица
Назначено заседание уголовного суда, Ле Мофф, выведенный из тюрьмы, предстал перед своими судьями.
Разбойник был захвачен в самом преступлении и сам объявил, что нанес удар по добровольному желанию, без всякого постороннего побуждения.
На скамье обвиняемых он повторил свое показание, и докладчик начал уже собирать мнения насчет содержания приговора. Но президент остановил его, по совещании с другими членами решено было до вынесения приговора подвергнуть обвиняемого пытке. Несмотря на силу воли, Ле Мофф побледнел: приготовленные снаряды для пытки и рассказы, всегда преувеличенные, о мучениях ничего успокоительного жертве не сулили.
Из залы присутствия повели Ле Моффа в подвал, нарочно устроенный в центре древней темницы, чтобы заглушать вопли, исторгаемые под пыткой несчастными жертвами. Ле Мофф мужественно вошел в большую комнату; его вели два человека, крепко державшие за руки и посадившие его на какое-то особенное сиденье – род стола из крепкого ремня, привязанного веревками к дубовой раме. Он не знал, что будут с ним делать, и с тревожным любопытством присматривался к этому необыкновенному снаряду. Не спрашивая его позволения, палачи толкнули его в плечи, и он оказался в лежачем положении.
В ту же минуту крепкие ремни схватили его по рукам, по ногам и вокруг груди; под голову ему подложили что-то вроде кожаной подушки. Ле Мофф подумал, если бы не тоска ожидания, можно бы заснуть часика на два.
Но всякая неизвестность исчезла, когда явился еще один человек и отворил дверь, откуда появился красноватый отблеск разожженной печи. В одной руке этот человек держал ведро, а в другой – воронку с длинной загнутой трубкой.
– Что же это такое? Вы никак хотите пытать меня водой? – спросил Ле Мофф с испугом.
– Да, – отвечал он.
– Уф! Я никогда не любил этого напитка и, пожалуй, еще занемогу по вашей милости.
– Так лучше сознайтесь, – послышался приторно-сладкий голос из темного угла.
Ле Мофф повернул голову в ту сторону и увидел маленького невзрачного человечка, который, сидя на табурете, разложил листы чистой бумаги на коленях и обмакивал перо в чернильницу, висевшую на пуговице сюртука. Очевидно, это был канцелярский чиновник.
– Да в чем же сознаваться-то? – спросил он.
– Какие были твои помощники…
– У меня не было помощников.
– В таком случае начинайте, – сказал чиновник, обращаясь к человеку с ведром.
Поставив ведро на пол, тот поднес воронку к губам Ле Моффа.
– Говорю вам, что я не терплю воды; нельзя ли заменить ее вином? Я заплачу вам за это, сколько хотите.
– Полно, раскрой рот, – сказал палач резко.
Ле Мофф понял, что сопротивлением можно повредить дыхательные органы. Ему всунули трубу воронки в самую глотку, так что путь к желудку был просторен.
По окончании предварительной операции палач подал знак двум помощникам, которые стали поддерживать один воронку, другой голову пациента. После этого вода свободно полилась ему в горло.
– Друг мой, не хотите ли сознаться? – спросил чиновник кротким голосом.
Ле Мофф был слишком занят, чтоб отвечать: ему приходилось, не шевелясь, глотать все, что было в воронке.
Когда вытащили трубку из его горла, Ле Мофф сделал такой глубокий вздох, что, кажется, тигры тронулись бы его страданием, но люди не знают пощады.
– Ну, что вы теперь скажете, друг мой? – спросил чиновник вкрадчивым тоном.
– Мне нечего говорить, – отвечал Ле Мофф, которого начинало беспокоить большое количество холодной воды, журчавшей в его груди.
– В таком случае продолжайте, господа.
– Опять этот противный напиток?
– Надо выпить все ведро до дна.
– Невозможно! – воскликнул Ле Мофф, измерив одним взглядом все количество страшного напитка.
Напрасно поворачивал он голову справа налево, слева направо – трубка была пропущена ему сквозь зубы прямо в горло.
Малое познание в анатомии еще раз убедило его, что лучше оставаться неподвижно-покорным.
Воронка опять наполнена до краев, и вода потекла во внутренности разбойника, который почувствовал себя разбухшей губкой. Лишившись сил, он в изнеможении опустил голову.
Один из помощников Парижского господина дал ему понюхать из склянки, и Ле Мофф медленно открыл глаза.
– Ну что же, любезный друг, сознавайтесь, – сказал сладкогласый чиновник.
– Это вам легко говорить! – сказал Ле Мофф, побагровев от ярости.
– Предупреждаю вас, ведро еще далеко не опорожнено.
– Ничего не скажу.
– Так-таки и ничего? Ой! Лучше говорите.
– Нет, тысячу раз нет!
– Однако какой же ты крепкий! – сказал чиновник, меняя тон.
– Желал бы я видеть вас на моем месте, мой сердечный друг! Кстати, цвет вашего носа не выявляет особенной наклонности к напитку лягушек.
– Кажется, ты еще и шутишь?
– Еще бы! И как же вы ошибетесь, если я заговорю.
– Что это значит?
– Черт возьми! Как мне хочется говорить.
– Говори же.
– Нет, не стану.
– Хорошо! Так ты наглотаешься у меня воды, хотя бы пришлось тебе лопнуть! Эй, вы, продолжайте свое дело.
– Остановитесь, я скажу! – закричал Ле Мофф, лишь только увидел, что над его головой закачался роковой конец воронки.
Чиновник обмакнул перо в чернила и устремил на своего пациента глаза, полные самодовольства.
– Пишите, любезнейший господин! К делу! Я раскаиваюсь, что рассердился на вас; вы достойнейший и усерднейший судья, преисполненный милосердия к несчастным; я буду помнить вас до конца жизни, потому что надеюсь выбраться из этой бедственной трущобы, и благословлять имя ваше до старости лет. Как вас зовут?
– Господин Трипье, – отвечал чиновник скромно, – но пора уже сказать…
– Хорошо, записывайте же, что я нанес удар по внушению одного важного и могущественного вельможи…
– Кончайте же!
– Его светлости герцога…
– О небо! Такая важная особа!
– Разве я назвал его?
– Нет еще, какого же герцога?
– Герцога де Бара.
– Как? Герцога де Бара! – воскликнул чиновник, вне себя от удивления.
– Прибавьте же – фаворита монсеньора кардинала Мазарини.
– Неужели это правда?
– Пускай допустят меня на очную ставку с двумя его служителями; один из них хорошего дворянского рода Мизри, другой гнусный лакеишка по имени Гондрен. Тогда сами увидите.
– Прекрасно! Прекрасно! – закартавил чиновник.
– Можно ли его спустить? – спросили помощники.
– О, вас, кажется, это дело очень забавляет? – спросил чиновник.
– Разумеется, спустить, и скорее поставьте меня на ноги перед моими верховными судьями; признаюсь, их лица гораздо утешительнее ваших.
Бандит был снова приведен в верховное судилище, которое единодушно вынесло ему приговор: быть повешенным.
– Повешенным? Но какая же выгода для меня после того, как я добровольно сознался?
– Тебя следовало колесовать живьем, – сказал один из судей.
– Благодарю покорно! Так вот что мне выхлопотали кардинал и его поверенные! Ах, господа судьи, напрасно посылаете вы меня на виселицу; клянусь вам, я за один пистоль готов был убить Мазарини.
Сторож приказал ему молчать.
– Господа члены верховного судилища, – сказал президент, этот бедняга, мне кажется, одушевлен наилучшими патриотическими чувствами, это внушает мне желание просить вас о снисхождении для того, чтобы облегчить ему переход из жизни в вечность.
– Милостивейшие государи, – подхватил Ле Мофф, – если дело идет о переходе, то я предпочитаю виселицу другим казням: у меня был товарищ, который три раза был повешен и всякий раз утверждал…
– Молчать! – прикрикнул президент.
Судьи совещались несколько минут; потом президент махнул рукой, и Ле Мофф, окруженный солдатами, был выведен из присутствия.
– Куда мы идем? – спросил он не без мрачного предчувствия, когда увидел, что его повели не в тюрьму, а во двор Шатлэ.
– К кресту Трагуара, – отвечал сладкогласий чиновник, который шел впереди. Человек свирепой наружности был слева, он держал за конец веревку, которой связаны были руки осужденного. С правой стороны явился священник доминиканского ордена, державший в руках распятие.
Ле Мофф, узнав в своем левом спутнике Парижского господина, почувствовал во всем теле дрожь. И это несмотря на неустрашимость, отличавшую его во всех опасностях отважной жизни. Процессия вышла из ворот и медленно продвигалась вперед. В эту минуту какой-то всадник опередил их и, взяв влево, скрылся на улице Сент-Онорэ. В этих густонаселенных кварталах мигом собрались толпы зрителей, так что по прибытии преступника на улицу Арбресек, откуда был виден крест Трагуара, людей уже было видимо-невидимо.
Ле Мофф узнавал многие лица, он не один раз обменялся значительными взглядами с друзьями и товарищами. Но радость, сиявшая на лицах зрителей, сулила мало надежды. Всем было известно, что его ведут на казнь за то, что он поднял руку на герцога Бофора.
Ле Мофф начинал даже раскаиваться, зачем так верно служил этому причудливому господину, который равнодушно допускает вести его на казнь.
«Может быть, я ему мешал?» – подумал Ле Мофф и опустил голову на грудь.
Еще несколько шагов, и они дошли до виселицы. Палач поставил его на колени; доминиканец тотчас же стал перед ним тоже на колени и начал увещевать его, чтобы он покаялся и достойным образом перешел в вечность; при этом он беспрестанно поднимал распятие, указывая на него как на спасение, если только он принесет искреннее покаяние.
– Вот каковы бывают сильные люди! – воскликнул Ле Мофф в ответ на свои мысли.
– Сын мой, думай только о спасении своей души, – увещевал доминиканец.
– Отец мой, я и сам теперь думаю, что величайшая глупость служить великим людям и надеяться на них! Гораздо лучше было бы пойти в монастырь, чем служить дьяволу.
– Превосходные размышления, сын мой.
Ропот нетерпения пронесся над толпами; палач, полагая, что достаточно было времени для покаяния, подал знак помощникам. Те тотчас подошли к Ле Моффу, подхватили его под руки и поставили на ноги.
Он не сопротивлялся, но когда поднял глаза, то увидел, что палач всходит уже на роковую лестницу. Помощники толкали его туда же, и один из них накинул на него петлю, посредством которой он должен был отправиться на тот свет.
В народе пробежала электрическая струя довольства, когда голова осужденного оказалась выше голов палачей, что обещало скорую развязку.
А Ле Мофф всходил все выше, не торопясь поднимался со ступеньки на ступеньку; руки у него были связаны, в глазах его был туман, в ушах такой шум, как будто он лишался чувств. Но любовь к жизни пробудилась в его душе. От страха ли или от ярости он смело посмотрел на всех и громко сказал:
– Я невиновен!
Невыразимый хохот был ответом на это неуместное заявление.
– Каков же сорванец! – слышалось со всех сторон. – Его захватили на месте преступления, а он уверяет в своей невинности! Повесить этого проклятого мазариниста!
– Но я не слуга Мазарини! – возразил он с негодованием. – Я служил Бофору.
– Смерть! Смерть ему! – ревели народные волны. – Поторопись, Шарло, не улизнул бы он от тебя! Его надо казнить! Он хотел убить нашего короля! Смерть разбойнику! Да здравствует герцог Бофор!
Ле Мофф хотел еще говорить, но сокрушительное «ура» заглушило его голос. Ярость душила его, он готов был броситься на эту бессмысленную толпу и рвать ее своими зубами.
Вот он на верхней ступеньке, и палач поднял ногу, чтобы оттолкнуть лестницу.
Наступила роковая минута. Буря народная смолкла. Можно было услышать полет мухи.
Вдруг с улицы Сент-Онорэ прозвучал могучий голос:
– Остановитесь!
– Ура герцогу Бофору! – ревела толпа, узнавшая своего кумира.
Герцог – это действительно был он – въезжал верхом на площадь, за ним следовала блистательная свита тоже на великолепных лошадях. Бофор выехал вперед и, теснимый со всех сторон, подъехал к виселице.

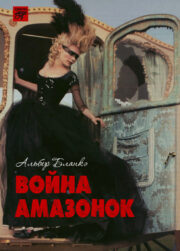
"Война амазонок" отзывы
Отзывы читателей о книге "Война амазонок". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Война амазонок" друзьям в соцсетях.