Наконец он решил, что сдержал данное себе слово, соскользнул с высокой полки и толкнул дверь. Она не поддалась. Тогда он толкнул ее еще раз. По-прежнему никакого движения. Он налег на дверь плечом и услышал слабый треск, но она даже не пошевелилась. Сжав кулаки, он замолотил ими по обшивке двери, начал кричать. Звуки эхом разнеслись по парилке.
Он прислушался, но не услышал никакого ответа. Слабея, он опустился на колени и прижался щекой к деревянному полу, где воздух был холоднее, перекатился на спину и, чувствуя, что силы покидают его, начал колотить в дверь подошвами ног. Он чувствовал, что теряет сознание. До него дошло, что он все еще не выключил печку. Он поднялся, шатаясь от слабости, с трудом делая каждый вдох, ощущая, как горячий воздух обжигает легкие, и перевел терморегулятор в положение «ВЫКЛ».
Снова растянувшись на полу, он попытался собраться с мыслями. Жар, он знал это, будет выходить очень медленно. В свое время он специально позаботился, самолично намертво стянув все соединения. Лежа на спине, он снова попытался закричать.
— Помогите! — крикнул он, но силы уходили, сознание туманилось. Впрочем, он все равно не смог бы ни до кого докричаться, он понял это даже в нынешнем состоянии паники. Они все находились двумя этажами выше. Он вспомнил глухой звук, который услышал, когда вошел в сауну, — звук удара. Он думал, это ее кулак — следствие краткой вспышки ярости. Теперь он был уверен, что она заклинила чем-то дверную щель. У него больше не было сил шевелиться, грудь горела. Посмотрев наверх, он увидел, что температура понемногу начала спадать. Столбик ртути уже миновал красную черту и приближался к отметке в 200°.
Закрыв глаза, он стал ждать. Страх за свою жизнь был ему в диковинку. Если не считать того случая с ложным сердечным приступом, он никогда еще не чувствовал себя на краю неминуемой смерти. Он не мог заставить себя поверить, что ему дважды удастся выскользнуть из ее объятий, равным образом он не мог примириться с мыслью, что Барбара оказалась способной на такое. Что-то и в самом деле в ней переменилось. Словно повернулся какой-то выключатель. Если он переживет эту ночь, решил он, то тут же уедет из дома. Надо бежать от нее как можно скорее. Температура продолжала опускаться, и паника понемногу проходила. Он поднялся на колени, затем снова лег на спину, но пот уже начал охлаждать тело. Затем в голове помутилось, и он погрузился в глубокое забытье.
Когда он пришел в себя, то уже остыл и смог встать на ноги. Он постучал по двери основанием ладони, по звуку определив, в каком месте вбит клин. Он понял свою ошибку: не надо давить на центр двери. Собравшись с силами, уперевшись руками в толстый край, выступавший над полкой, он начал бить пяткой в точку чуть пониже того места, где, по всей видимости, держался клин.
Он почувствовал, как дверь со скрипом подается. Еще несколько ударов, и она распахнулась настежь, и тогда он услышал, как стамеска упала на пол. Все еще шатаясь, он подошел к душу и включил холодную воду.
Придя в себя под струями прохладной воды, он хотел броситься вверх по лестнице, выломать дверь в ее комнату и избить жену до полусмерти. Хуже того — ему хотелось ее убить. Искушение было так велико, что он все не решался подняться наверх.
Он уже не отдавал себе отчета в том, что делает. Обнаженный, он двинулся вверх по лестнице, сжимая в руке стамеску, словно кинжал. Он шел крадучись, как наемный убийца. Да, не было сомнений, он жаждет убийства, если не ее самой, то чего-нибудь, что принадлежало бы ей. Ей одной. Проходя по оранжерее, в эти минуты залитой светом полной луны, он почувствовал аромат растений — ее африканских фиалок, ее бостонских папоротников, и воспоминание о погубленных орхидеях тут же выкристаллизовалось в действие.
Острым концом стамески он срезал стебли, выдергивал их из горшков и складывал аккуратной стопкой рядом с краем ковра. Но и после этого он не почувствовал удовлетворения. Поэтому взял стебли в руки, держа их как мертвые тела, и принес на кухню, где положил рядом с раковиной мойки. Выбрав самую большую кастрюлю, которую смог найти, он сложил в нее стебли, затем наполнил кастрюлю водой и поставил на огонь; зарезать, утопить, сварить. Все это, он знал, совершенно бессмысленно. Безумие. Но ему стало легче. Он поднялся к себе и тут же заснул.
— Она пыталась убить меня, Гольдштейн. Это же ясно как божий день, — он все еще был слаб, и от слишком глубоких вдохов у него болели легкие. Утром пришлось взять такси, чтобы добраться до Коннектикут-авеню.
— Это похоже на историю из Агаты Кристи. Неужели она такая умная? — Гольдштейн побледнел от услышанной новости, выпуская клубы сигарного дыма.
— Я готов признать, что она очень умна, да еще при этом умеет обращаться с инструментами. Я сам научил ее тысяче разных вещей. Она вбила клин по всем правилам, — несмотря на гнев, он не мог подавить в себе странного восхищения Барбарой. Он сам породил этого монстра.
— Но ведь все обошлось? Должно быть, она знала — вы не дадите себя зажарить, — Гольдштейн разогнал перед собой дым, словно этим жестом мог прочистить себе также и мозги. — Я не стану смотреть на это сквозь пальцы, но, для того чтобы подать на нее обвинение в преднамеренном убийстве, ваши показания неубедительны.
— И это очень странно, Гольдштейн, — Оливер сжал кулаки и застучал по столу. — Все, что сейчас происходит, очень странно.
Вспышка ярости напугала Гольдштейна, и он спешно принял свою обычную позу всезнающего человека.
— Вы не должны поддаваться гневу, Роуз. Вы хотите, чтобы я заявил, будто она пыталась вас убить. Но для этого нужны веские доказательства, а не косвенные намеки. В полиции над вами просто рассмеются и скажут, что вы пытаетесь с их помощью решить свои мелкие житейские неурядицы.
— Это не смешно.
— Для вас — не смешно. Для меня — не смешно. А для полицейских — смешно. А все смешное становится одиозным. А одиозное привлекает к себе любопытство. Кроме всего, я не консультирую по уголовным делам.
Оливер вскочил на ноги и зашагал по комнате, но, почувствовав боль в легких, снова сел.
— Я знаю, что она пыталась убить меня. Что бы вы тут ни говорили, Гольдштейн, ничто не убедит меня в обратном. Она просто достигла нового порога ненависти.
— А вы? — в упор спросил Гольдштейн.
— Терпеть не могу, когда у вас такой… раввинский вид, такой надменный, словно вам известны все тайны человеческого сердца.
— Вы не ответили на мой вопрос, — сказал Гольдштейн, словно споря с Богом.
— Хорошо, да. Я тоже хотел убить ее. Да, такая мысль посетила меня, и я едва не поддался. К счастью, меня отвлекли цветы, и пришлось убить их вместо нее. Это звучит дико, но зато она получила предупреждение. Со своей стороны я могу добавить, что эти цветы спасли ей жизнь, — он проговорил эти слова медленно, расчетливо. Гольдштейн, казалось, застыл от такого признания, а затем умоляюще взмахнул руками.
— Все, что вы сейчас чувствуете, совершенно естественно… — начал он.
— Так вы еще и психиатр, Гольдштейн?
— Если бы я был психиатром, то выставил бы вам сразу два счета за свои услуги. Я всего лишь хочу вложить в вашу голову немного мудрости. Я не собираюсь давать никаких установок. В каждом человеке живет потенциальный убийца. Но чувства проходят. В противном случае мы все оказались бы в большой беде.
— Это и есть ваша мудрость?
— Нет, еще кое-что. На вашем месте я перестал бы реагировать на жену. Просто жил бы как в вакууме.
— Это нелегко.
— Кто говорит, что это легко?
— Иногда, Гольдштейн, — сказал Оливер, — я хочу бросить все к черту. Убраться из города. Начать все сначала. Если бы только я не был забубенным законником, встроенным в Федеральную торговую систему. Здесь слишком легко. Слишком прибыльно, — он почувствовал, как его захлестывает волна отчаяния. — Боже, как же легко нас портят вещи, — его передернуло, когда он услышал эту избитую фразу из собственных уст.
— Появилось новое выражение — «стиль жизни». Так вот, она не хочет менять свой стиль жизни. И — посмотрим правде в лицо — вы не хотите менять ваш. В конце концов, что еще символизирует собой дом? Убежище? Глупости. Дом — это символ престижа. Дом, Роуз, — это не просто место, где вы живете.
— Идите вы к черту с вашей дерьмовой мудростью.
Гольдштейн вздохнул, снова посмотрел на него и покачал головой.
— Еще несколько месяцев. Затем судья вынесет решение. Все судьи дураки, так что либо мы, либо наши оппоненты подадут на апелляцию.
— Я не позволю ей завладеть домом. Не позволю. Я уже дважды находился на волосок от смерти из-за него. По крайней мере, образно говоря. Я держусь за него вот уже семь месяцев. Продержусь и еще пять.
— Игнорируйте ее. Разве это так уж невозможно?
— Попытаюсь, — он посмотрел на Гольдштейна. — Мистер Мудрец, если вы будете игнорировать ангела Смерти, разве он уберется восвояси?
— Я не люблю разговоров о таких прискорбных вещах по утрам.
ГЛАВА 19
Энн сидела рядом с Оливером, пока машина медленно двигалась по горной дороге над рекой Шенандоа.[43] Окна были опущены, и она чувствовала аромат пробуждающейся земли. Почки на деревьях только что раскрылись, и листья еще имели оттенок ранней весенней зелени.
Тихо сидя рядом с ним, она всю дорогу из Вашингтона почти не разговаривала. По дороге они остановились, чтобы купить жареных цыплят и ярлсбергского сыра; кроме того, Оливер захватил из дома две бутылки вина.
Разумеется, она нарушила установившийся между ними договор. Но настойчивость, с которой Ева просила ее об этом, была так трагична. Ей нравилось это слово, словно она сама изобрела его. Пришлось звонить Оливеру в офис.
— Это действительно неотложно, Оливер. Это вовсе не касается отношений между тобой, мной и Барбарой. Все дело в Еве.
— Прямо как в кино, — проворчал он, но все же уступил.
За последние недели они почти не виделись. С самого утра он уходил к себе в офис и оставался там допоздна, возвращаясь, когда все в доме уже спали. По выходным он также старался не показываться, и субботние дни проводил опять же в офисе, а вечера — в кино. Воскресенья он, скрепя сердце, пытался уделять детям, но у них вечно находились дела. Стараясь быть аккуратным, он посещал все матчи, где играла команда Джоша.
Однажды вечером Ева пришла в комнату к Энн. В последнее время она стала скрытной и вялой, подчиняясь, по-видимому, общему настроению, царившему в доме Роузов. К каким бы тактическим уловкам ни прибегали воюющие стороны, вражда между Барбарой и Оливером пропитывала собой все вокруг.
— Я не поеду в лагерь, Энн, — начала Ева воинственным тоном, который напомнил Энн об их первой встрече. Но нынешнее заявление не оставляло места ни для каких возражений. — Мне там будет плохо. Потом, ясно же, что они просто хотят выдворить нас из дома.
— Что же в этом плохого?
— Ты думаешь, я не понимаю, что происходит?
— Ну, надо быть совсем слепой и глухой, чтобы не понять.
— Дело в том, Энн, что я просто боюсь оставлять их одних. Это и есть настоящая причина, хотя никому, кроме тебя, я не могу этого сказать, и ты должна обещать мне, что тоже никому не скажешь.
— Ну разумеется.
Подобно Барбаре и Оливеру, Ева тоже сочинила свою маленькую ложь, за которой, как за удобным фасадом, можно было прятаться от других. Впервые за последнее время Энн удалось краем глаза заглянуть за него.
— Ты тоже уедешь, Энн. А если меня и Джоша здесь не будет, тогда никто не знает, что может случиться. Я боюсь, Энн. Действительно боюсь… Скорей бы… — она заколебалась, и тут Энн заметила, что Ева, видимо, пролила немало слез, прежде чем найти подходящие слова. — Скорей бы уж они помирились, или папа съехал бы наконец. Или мы с мамой съехали бы куда-нибудь, — она открыла новую пачку сигарет. — Я ничего не могу понять, хотя и пытаюсь. Правда, Энн. Но с ними невозможно больше говорить. Такое впечатление, что нашей семьи никогда и не существовало, что мы просто жили раньше в одном помещении и все. Мне хочется, чтобы они продали этот дом, избавились от него. Почему они так за него уцепились?
— Не уверена, помнят ли они еще сами об этом, — сказала Энн. Она смотрела, как дым медленно выплывает из ноздрей Евы.
— Я хочу, чтобы ты поговорила с папой, Энн, — настойчиво попросила Ева. — Пожалуйста. Мне все равно, что ты ему будешь говорить. Только, пожалуйста, уговори его не отправлять нас в лагерь.
— Но как? Что я ему скажу?
— Все, что угодно. Скажи ему что-нибудь о том, из-за чего отцы беспокоятся о дочерях. Что я попала в плохую компанию, что курю марихуану и мне нужен строгий родительский надзор. Ты лучше знаешь, что надо говорить. Только не говори, что я боюсь за них, — она помолчала и посмотрела на улицу из окна, в ее широко открытых глазах стоял страх. — Я на самом деле думаю, что, если бы не мы с Джошем, они разорвали бы друг друга в клочья, — она покачала головой. — Энн, разве может любовь смениться ненавистью?

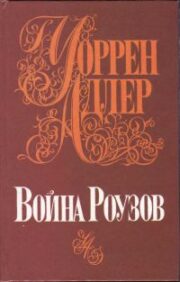
"Война Роузов" отзывы
Отзывы читателей о книге "Война Роузов". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Война Роузов" друзьям в соцсетях.