— Я буду сопротивляться твоему сопротивлению, — сказал он. — До бесконечности, если понадобится. Это мой дом. Я заплатил за него. И все остальное мне неважно. Даже если суд решит по-другому, я найду способ, как его обойти.
— Только через мой труп.
— С удовольствием. Если у меня получится.
Она опустила руку и коснулась холодного лезвия своего секача.
— Зря пытаешься запугать меня, — спокойно сказала она, допила свой кубок и налила еще из бутылки.
— Мы уже давно перестали запугивать друг друга, Барбара.
— Вот только мне не понятно… — она поколебалась, прикладывая кубок к губам. — Мне не ясно, почему ты никак не можешь понять моего положения. Столько людей вокруг разводятся. Тебе вовсе не обязательно оставаться здесь. Ты вполне мог избежать всех этих… этих неприятностей.
— Это не неприятности, — он хохотнул. — Любопытная точка зрения, я бы сказал.
Она посмотрела на него и покачала головой.
— Ты все-таки ублюдок.
— Я вовсе не собираюсь одарять тебя за то, что ты оказалась такой сукой, за то, что разрушила нашу семью. Тех, кто разрушает, не награждают.
— Опять семья. Всегда у тебя семья. Почему я должна играть роль, которую ненавижу, выполнять обязанности, которые вот-вот задушат меня? — она ударила ладонью по столу. Тарелки подпрыгнули, канделябр покачнулся. — Мне это надоело, и я хочу компенсации за свое самопожертвование.
Его лицо блестело от пота. Он улыбнулся, но улыбка была холодной.
— Ты была просто кучкой вонючего дерьма, когда я женился на тебе. Это благодаря моей голове ты оказалась в этом доме. Это на мои деньги куплены все эти вещи. Это лишь благодаря моему терпению и моей поддержке ты научилась готовить блюда для гурманов. Если бы не я, ты сейчас жила бы на каких-нибудь поганых задворках в Новой Англии[54] и варила бы картошку какому-нибудь придурочному клерку.
— Прими мою вечную благодарность, — она выплюнула эти слова.
— Я не собираюсь уходить отсюда! — крикнул он окрепшим голосом. Она покрепче сжала рукоятку секача. — И ни одна вещь не покинет своего места. Убраться придется одному из нас.
— Что ж, моя совесть чиста.
— У тебя нет совести.
Она посмотрела на него, внезапно почувствовав, как внутри у нее пробуждается жалость. Он оказался такой же жертвой, как и она. Странная, неопределенная идея, которую люди называют «любовью», обманула их обоих.
— Ты больше ничего для меня не значишь, Оливер, — грустно сказала она. — Ты — просто пустое место. Ты мне отвратителен.
— Да неужели? Я так же здорово тебя ненавижу.
— Моя ненависть уже закончилась, Оливер. Я давно уже с ней справилась. Я слишком долго жила с ней. И в этом вовсе нет твоей вины. Просто ты оказался в неподходящее время в неподходящем месте.
— Прошу тебя, Барбара. Не надо объявлять меня невиновным. Мне нужна моя ненависть, так же как тебе нужна твоя. А то как еще я выстою в такой войне? — он произнес это саркастическим тоном, но она не поняла, в чем здесь шутка.
— Что ж, давай посмотрим на развод как на войну, — сказала она. — По крайней мере, мы избавили от этого детей.
— Детей? Я в последнее время совсем забыл о них.
— Я тоже.
— Надеюсь, ничего с ними не случилось.
— Отсутствие вестей — уже хорошие вести. Я рада, что они сейчас далеко от передовой.
— Смотри, как изысканно мы можем беседовать, Барбара! — он молча поднял свой кубок, она — свой. — Люди не имеют значения, — хмуро произнес он. — Только вещи. Вещи имеют юридическую силу. Они всегда на месте. Всегда реальны. Некоторые вещи еще и повышаются в цене. А вот люди — никогда. Люди только обесцениваются, — он посмотрел на нее пьяным взглядом.
— Может, ты и прав, — огрызнулась она. — Пожалуй, я беру назад свое предложение.
— И все, чем тебе придется довольствоваться, — это половина общей стоимости. Наличными. Много наличных. А затем убирайся. Fini.[55]
— Когда ад замерзнет.
— Не по такой жаре.
— Ну, тогда нам придется затянуть ремни потуже, верно?
— Пью за это, — он перевернул свой кубок, затем открыл еще одну бутылку. Подняв ее в руке, он рассматривал этикетку. — Шато Бишевиль. Урожая 64-го. Кажется, мы неплохо провели этот год, шестьдесят четвертый.
— Это ты так думаешь, Оливер. Я так никогда не считала.
Запрокинув бутылку, он отпил прямо из горлышка. Затем снова поднял ее горлышком вверх, покачивая, чтобы придать вес своим словам.
— Я хочу, чтобы ты убралась отсюда, — заявил он. — Это мое место.
— Именно это я и хотела сейчас сказать, Оливер, — холодно ответила она.
Он повысил голос.
— Я люблю его больше тебя. Я заслужил его. А ты его совсем не любишь.
— Я не собираюсь слушать этот бред.
— Ты не можешь вот так все взять и забрать. Тебе придется мне кое-что оставить.
— Ты пьян. Смотри не заплачь.
Она чувствовала, как в нем нарастает напряжение.
— Ты — жадная эгоистка, Барбара. Ты омерзительна. Мерзкая сука.
— Я работала на этот дом. Теперь я буду за него драться.
Он осушил бутылку и дал ей упасть на пол. Не разбившись, она покатилась под стол. Он шагнул к дверям.
— Да, спасибо за угощение, — проворчал он напоследок.
— Это не мне, — она подождала, убедившись, что он ждет продолжения. — Скажи спасибо Бенни.
— Бенни?
Он пошатнулся, схватившись рукой за стену. Ноги стали подгибаться, но, собрав силы, он выпрямился и с яростью посмотрел на нее. Она среагировала раньше, чем он начал двигаться, прежде чем внезапно перед ней материализовалась его рука, сжимающая лом. Подхватив свою сумку, она прижала ее к груди и вскочила, опрокинув кресло.
Она увидела, как лом совершил длинный, размашистый путь и опустился на канделябр, который все еще стоял на столе. Неторопливо затоптал все свечи, погасив пламя.
Наступила кромешная темнота. Она достала из сумки секач и подняла над головой, готовая пустить его в ход. Она покажет ему всю меру своего упорства и храбрости.
Она ждала, что он бросится на нее, и была удивлена его медлительностью. Он боится, решила она.
Оглушительный звук пронесся по комнате. Она услышала ударивший по нервам скрежет металла по дереву, и поняла, что это лом обрушился на столик работы Дункана Файфа. Боль покалеченного дерева, казалось, передалась ее телу. Под покровом темноты она отступила из комнаты, тихо прошла по коридору, поднялась по лестнице и зашла в комнату Джоша.
Там залезла в стенной шкаф, положила на колени свою сумку, сжимая рукоятку секача. Удары сердца отчасти заглушал грохот разрушений, в которые он вкладывал свой гнев и боль.
ГЛАВА 28
Долгое время он лежал на полу в своей комнате, пытаясь обрести чувство времени. Он намеренно не спешил, так как знал, что вместе с чувством времени придет и страдание. Если бы ему удалось отрешиться от времени, он мог бы лежать здесь целую вечность. Он мог бы избежать существования. Существование было его врагом.
В комнате стало темно, затем посветлело, затем опять стало темно. Он потерял счет дням. Считать означало бы снова обрести чувство времени. Он лежал в луже собственного пота, издававшего зловоние. Если он очнулся — значит обрел и чувство пространства. Видимо, никуда не убежать от действительности, и он открыл глаза.
На улице было светло, значит, стоял день, какой-то из дней. Он решил по возможности подольше не обременять себя точными датами и часами. Комната была завалена пустыми бутылками из-под вина. Движение его ноги потревожило несколько из них, и они покатились по полу, ударяясь друг о друга. Звук стекла напомнил ему, что хочет пить, и он пополз, опираясь на руки и колени, в поисках полных бутылок.
Обнаружив одну, он заставил себя сесть, не видя поблизости штопора, отбил горлышко бутылки об пол и стал лить себе вино в рот. Вино расплескивалось по подбородку и голой груди. Ему даже не пришло в голову запомнить его вкус, чтобы определить марку. Оно с равным успехом могло быть и красным и белым. Его язык словно онемел, утратил чувство вкуса.
Он немного пришел в себя и неохотно встал, подтянувшись за стойку кровати. Голова закружилась, подкатила тошнота, желудок свело спазмом, он с усилием глотнул. Теперь время захватило его в плен. Бежать было некуда.
До его слуха донеслись какие-то слабые звуки, и он был уверен, что это дом, его союзник, пытается о чем-то ему сообщить. Что-то опять глухо заворчало где-то в отдалении. Дом словно хотел ему о чем-то сказать. Он был абсолютно уверен в этом. Должно быть, дом хотел пожаловаться на свою боль, на свою ярость.
Мысль о том, насколько дом беспомощен в этой войне, приковала его к месту. Эта же мысль окончательно вернула его к чувству реальности. Он внезапно понял, что большие часы в вестибюле больше не отбивают время, что он забыл завести их в последний раз. Вот жизнь, которую можно восстановить, сказал он себе.
Хотя он снова обрел существование в настоящем, недавнее прошлое оставалось для него неясным. Он начал вспоминать, разматывая события, словно ленту, в обратном порядке. Он искал ее. Заглянул в кухню, в оранжерею, в сад, в гараж. Обрушил черную лестницу, чтобы помешать ей удрать, если она еще в доме. Затем обыскал все пространство вокруг дома и снова вошел внутрь через парадную дверь. Ему пришло в голову, что она может быть на чердаке, и он стремительно бросился вверх по лестнице, затем бестолково пытался одолеть верхний пролет, забыв, что сам же сделал его непроходимым. Он поскользнулся и упал, не успев пробежать и двух ступенек. Пожалуй, решил он, на чердак ей все же попасть не удалось.
После падения он стал действовать осторожнее. Если она сотворила такое с Бенни — значит готова на все. Абсолютно на все. А если бы ей удалось устранить и его, то кто бы тогда защищал дом?
Один раз он услышал какие-то звуки и пошел на них, поняв, что кто-то вскрикнул от боли. Так он и увидел смутно знакомый силуэт, бегущий через сад. Энн. Он поставил эту ловушку не для Энн и теперь был рад, что ей удалось ускользнуть. Ей нечего делать в этой войне. Все его ловушки предназначались Барбаре.
Именно эта мысль, вспомнил он теперь, и привела его обратно в комнату, где он потерял чувство времени. Он был уверен, что она где-то в доме. Наверное, затаилась где-нибудь, как крыса, рыская по укромным углам и норам. Значит, он должен выкурить ее оттуда. Осторожно. Хитроумно. Во всем доме для нее не должно остаться безопасного места.
Он снова лег, обдумывая в голове определенный план. За окном снова начало смеркаться. На ночном столике неподалеку от себя он обнаружил полсвечи и, чиркнув спичкой, зажег ее. Дрожащий желтый огонек успокоил его. Он снова почувствовал себя в безопасности, чувства обострились.
Он съел немного черствого хлеба и запил его вином. Взяв с собой лом и свечу, он осторожно открыл дверь. Под ногу попал какой-то предмет, и он услышал треск. Нагнувшись, он обнаружил на полу разбитую стаффордширскую статуэтку, одну из самых ценных. Гарибальди. Не позволяя себе расстраиваться, он поднял свечу. В ее свете он разглядел слова, выведенные знакомым почерком. Она больше не пользовалась ни бумагой, ни картоном, а писала губной помадой прямо по двери.
«Я буду разбивать по одной каждый день», — прочитал он.
Он опять не позволил себе ни малейшей эмоции, полностью сконцентрировавшись на том, что предстояло сделать. Он собрал инструменты и прежде всего отвинтил шурупы, удерживавшие петли всех дверей в доме, за исключением двери в его комнату, — в стенных шкафах, комнатах — словом, везде, где только были петли. Ни одну дверь теперь, кроме его собственной и наружной, ведущей за пределы дома, нельзя было открыть бесшумно. Он осторожно пристроил каждую дверь так, чтобы малейшее прикосновение заставило ее упасть. Затем принялся за мебель, ослабляя болты, вытаскивая ножки и подпорки, пристраивая каждый предмет так, чтобы тот падал от самого слабого толчка.
Он не тронул лишь столовую, где царил полнейший разгром, хотя и не смог отказать себе в удовольствии посмотреть на надпись, которую он вырезал в прошлый раз на крышке стола: «СУКА». Он ослабил каждый винт и каждый шуруп на кухне, какой только сумел найти, особенно те, что держали на весу все еще нетронутые кастрюли над рабочим столом, оставив их в самом неустойчивом положении. То же самое проделал с полками и дверцами буфета. Методично передвигаясь из одного угла в другой, полностью сосредоточив внимание на своих непосредственных действиях, он сумел отвлечься от одолевавших его посторонних мыслей.
Свеча догорела, но к тому времени за окном опять забрезжил свет. Обрадовавшись естественному освещению, он собрал самые тяжелые чугунные горшки и перенес их на площадку второго этажа. Другие горшки он заклинил по углам дверных стояков.

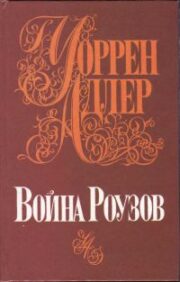
"Война Роузов" отзывы
Отзывы читателей о книге "Война Роузов". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Война Роузов" друзьям в соцсетях.