Роберт Мендельсон
Восточная мадонна
1
МАРБЕЛЛА, СЕНТЯБРЬ, 1991 ГОД
Пока не поздно, надо рассказать, как все было на самом деле в этой истории с Бернадетт и Клэем. Я потратил многие годы и исколесил почти полсвета, чтобы докопаться до сути, но ведь должен же хоть кто-то знать правду.
Его я видел всего два раза в жизни, и лишь однажды мне довелось разговаривать с ним. Она же была совсем рядом со мной, но очень недолго, и я до сих пор не могу вспоминать об этом без содрогания. Сколько уж лет прошло, а они все не выходят у меня из головы. Когда нет никого рядом, я даже беседую с ними, как будто они были моими друзьями, а не жертвами. Как будто мы вместе росли и я делил с ними их секреты, одиночество, славу, поражения и любовь. Когда-то я, превратившись в их тень, следовал за ними по пятам чуть ли не через всю Европу, как за парочкой преступников. Я поступал так потому, что имел приказ, а приказы не обсуждаются.
Здесь, на юге Испании, полно таких, как я. Бывшие полицейские, вроде меня, ошиваются тут бок о бок с бывшими заключенными. В конце лета многочисленные кафе на побережье заполнены посетителями, глазеющими друг на друга, набережные полны голосов, тут и там разгуливают знаменитости, делая вид, что не замечают обращенных на них взглядов. Позади мачт и причалов в волны Средиземноморья мягко опускается солнце, и когда огни Порта Банус разноцветной лентой протянутся к белоснежным морским яхтам, я начну собираться домой. Мой слуга Пепе поможет мне втиснуться в изготовленную им хитроумную инвалидную коляску и покатит ее в мою берлогу.
Восточные страны, откуда мы с Бернадетт и Клэем отправились в наше путешествие, остались где-то далеко. Теперь никому и в голову не придет поговорить о Вьетнаме или о Хо Ши Мине. Но недавно в одной из пиццерий я увидел напиток под названием «Сайгон». К чему бы это? Хоть в Бога я не верю, но могу поклясться, что сам Всевышний ткнул меня носом в этот «Сайгон».
Очевидцев той истории было предостаточно, но кто-то не заметил, кто-то не понял, а третий – смотрел, но не видел. Да и в живых мало кто остался. Одни умерли от старости, другие – из-за тех двоих, а кое-кого я прикончил своими руками.
Теперь, глядя на мое иссохшее тело, трудно поверить, что некогда я был весьма дородным мужчиной. Мой слуга Пепе, не теряя надежды, что я потолстею, пичкает меня разными сладостями, которые я раньше обожал, а теперь они мне и даром не нужны. Когда мужчина перестает получать удовольствие от еды, считайте, что прозвенел звонок, – значит, ваши ходики показывают поздний час. Время – вот чего нам всегда недостает. Мое время стремительно иссякает, и мне надо успеть обо всем рассказать.
До того, как я стал таким, как сейчас, я был полицейским в Гонконге. А перед этим служил старшим сержантом в Британской армии, а еще раньше – дрался с японцами в Бирме. Но по сути, настоящая моя жизнь началась именно в тот момент, когда господин Патель отдал мне свой последний приказ. Этот индийский джентльмен не побоялся взять меня к себе на службу, когда меня выперли из полиции. Он занимался разными делами, и, судя по всему, делишками, но в те времена в Гонконге все так поступали. И хоть репутация у него была, прямо скажем, не самая безупречная, я всегда вспоминаю о нем с огромным уважением, потому что мне он доверял. Если бы я не любил его и не был ему предан, я, может быть, и не погнался бы тогда за этой парочкой.
В полиции мне служилось не так уж и плохо. Многое из того, чему я там научился, пригодилось мне потом. Иначе мне ни за что не удалось бы найти Клэя с Бернадетт и тем более – проехать за ними через столько стран, оставаясь незамеченным. Огромный, розовощекий американец рядом с миниатюрной вьетнамкой выглядели странной парой и в те далекие шестидесятые годы, в Европе многие удивленно поднимали брови, глядя на них. Но мой полицейский опыт помог мне не только разыскать их, но и докопаться до правды уже после того, как охота закончилась. Мне удалось обнаружить разные концы той веревочки, что на время связала их вместе. На это ушло много времени и денег, хорошо еще, что они у меня были. Однако я жаждал большего – я не мог успокоиться, пока не понял всю подноготную этой злосчастной истории, не понял, почему мне был дан фальшивый приказ и почему я гонялся за ней, хотя в этом не было необходимости.
Лучше бы ей не родиться. Ей не раз об этом говорили. Природа, сыграв очередную злую шутку, произвела девочку на свет в военном офицерском госпитале в Сайгоне, но мать так и не узнала об этом, умерев во время родов. Отец же, пожилой француз, владелец чайных плантаций, оставшийся, несмотря на войну, в Индокитае, воспринял ее появление на свет как настоящее чудо и назвал дочку Бернадетт.
Девочка росла и хорошела с каждым днем. Ее неописуемая красота восполняла то, чего ей не хватало с точки зрения церкви. Она была худенькая и стройная, как тростинка, а лицо, словно выточенное тончайшим резцом скульптора, с большими круглыми глазами цвета жареного миндаля, обрамляли густые, черные как смоль волосы. Характер у нее был открытый и общительный, она любила поиграть и поболтать во дворе со слугами. Но лучезарная улыбка девочки моментально исчезала при виде чрезмерно строгой няньки.
Понимая, что вьетнамцы не оставят попыток добиться независимости с оружием в руках, отец девочки, Луи Мурньез де ля Курсель, предвидел, с какой враждебностью придется столкнуться его дочери, и поэтому решил отправить ее во Францию – в монастырь рядом с Фонтенбло. Так, семилетним ребенком Бернадетт оказалась в Париже, где ее встретили Иисус и Мария Магдалина и где позже она познакомилась с Бодлером и Моне. Отныне вместо вечнозеленых тропиков ей предстояло видеть холодные каменные коридоры и слышать тихий шелест голосов.
Имя древнего рода, которое носила девушка, не принесло ей счастья. Несмотря на свое происхождение, Бернадетт надлежало стать француженкой в полном смысле слова. И в этом не было ничего из ряда вон выходящего, поскольку Франция всегда отличалась терпимостью. Люди со всего света съезжались сюда на протяжении веков, и дети их никогда не чувствовали себя изгоями.
Бернадетт не была похожа на иностранку. По словам ее первого любовника, она напоминала Мишель Морган, только с темными восточными волосами. У нее была изумительная кожа и невероятно красивые ноги, способные остановить уличное движение. Так описывал ее любовник, не скрывая своей гордости хозяина, но ей самой он этого не говорил никогда.
Отец умер, когда ей исполнилось пятнадцать. Луи Мурньез де ля Курсель был богатым человеком и последним мужчиной этого древнего рода. И тут же прогремели первые выстрелы в битве за наследство. Тетушки и кузины, дальняя и ближняя родня лезли из кожи вон, чтобы лишить Бернадетт наследства. Вот когда она впервые увидела отвратительный лик алчности. Бесшумная война с применением прошений, исковых заявлений, огромного количества денег, заплаченных адвокатам, длилась долго. Ее хотели лишить наследства на том основании, что родители не находились в законном браке. Да еще родственники раздобыли доказательства, что ее мать была восемнадцатилетней проституткой. Поэтому, настаивали они, нет достаточных оснований считать Бернадетт единокровной дочерью Луи.
Пока вся эта свора бесчисленных родственников рвала на куски наследство, юная Бернадетт со стороны наблюдала за происходящим. Раньше, когда отец приезжал к ней, она всегда ощущала его доброту и нежность, хоть он и был человеком сдержанным. А теперь с его смертью она была скована холодом. В школе вокруг нее нарастало напряжение. Всем было известно, что, пока суд не принял решения, плата за ее обучение не поступает. И вот в один прекрасный день ее вызвала к себе настоятельница. Было решено, что Бернадетт переедет в келью к поварихе и будет помогать воспитательницам в уходе за младшими девочками. Бернадетт обещала хорошо себя вести и много работать. Ей было нелегко смириться со своим новым положением, но вместе с тем она мечтала, чтобы ею могли гордиться. Высшим счастьем для нее было чего-то добиться, совершить что-то особенное. Ее попросили подписать какие-то бумаги в обмен на плату за обучение, но она, не поняв в них ни слова, отказалась.
Наконец родственники выиграли дело. Ей было разрешено жить во Франции, но гордое имя ее отца ей больше не принадлежало. После этого к ней никто не приходил, и ее одноклассницы моментально смекнули, что никаких богатых родственников у нее не осталось. Раньше они ужасно завидовали ее подаркам, ее прогулкам за стенами монастыря, и вот вся скопившаяся за несколько лет ненависть к ее былому богатству теперь, наконец, была удовлетворена всего лишь ее несчастным видом. С ней и раньше мало кто дружил, теперь же к ней относились, как к прокаженной.
Открытая улыбка навсегда исчезла с лица Бернадетт, она ушла в свой собственный мир, и единственной отдушиной для нее стали ее маленькие подопечные. Им тоже было хорошо – тихий и мягкий голос девушки, казалось, согревал их в этих каменных стенах. Она старалась отдать всю себя, потому что этим детям, как и ей, не хватало семейного тепла. Бернадетт стала усиленно заниматься, выполняла все школьные задания и много читала. Если в этом уголке земного шара я стала нежеланна, размышляла она, то, прежде чем уехать отсюда, надо получить хотя бы самое необходимое – образование.
Этот период в жизни Бернадетт вызывает во мне чувство боли и стыда. Я злюсь на себя, на всех европейцев с их высокомерием и черствостью. Мне удалось разыскать трех ее бывших одноклассниц, давно распростившихся с бальзаковским возрастом, и в ответ на мои вопросы не прозвучало ни единой ноты раскаяния, лишь одна из них выразила сочувствие, пригласив меня в гости. Войдя в ее просторные парижские апартаменты, я сразу ощутил царившее там одиночество и скуку. Бьюсь об заклад, что она приоделась по случаю моего визита.
– Ума не приложу, почему так получилось, – смущенно лепетала она. – Ведь когда от нее отказалась семья, у нас не осталось причин для зависти. Но… Бернадетт, как вам известно, была иностранкой. К тому же она была необыкновенно красива, похожа на восточную мадонну. Вероятнее всего, девочки ненавидели ее именно за это. Мы просто из себя выходили, говорили, какая она страшная, мерзкая. Мы ее буквально распинали. Конечно, ей было тяжело, но она даже ни разу не заплакала. И это приводило нас в бешенство. Знаете, ведь дети жестоки.
– Может быть, – сказал я, чтобы поддержать разговор.
– Хуже всего, что ее постоянно попрекали позорным прошлым матери. Это, видимо, было для нее самым страшным испытанием.
– Страшнее другое, – возразил я, – пережитое в детстве не проходит бесследно и впоследствии может отразиться на судьбе человека самым губительным образом.
– Я-то сама никогда ничего ей не говорила, я была очень застенчивой девочкой.
Мне стало ясно, что больше ей сказать нечего. Своим вторжением я внес в эту изящно обставленную гостиную ощущение неудобства. Мне показалось, что ей стыдно. Во всяком случае, когда я благодарил ее на прощанье, она извинилась, проводила меня до входной двери и, может быть, даже помахала мне вслед, но я не обернулся.
Да что я все копаюсь в своих воспоминаниях, подумал я, чувствуя, как учащенно бьется сердце. Вон, солнце уже у самой кромки моря, и Пепе опять начнет ворчать, что я сижу тут в темноте. Он боится, как бы я не простудился.
Бернадетт, казалось, воспринимала свою отверженность, как должное, с истинно восточным спокойствием. Но, по-моему, хоть она сама себе в этом не признавалась, именно в тот период в ней стало расти разочарование в Европе, европейцах и всем, что принято называть «белым». Нет, она не обозлилась, в этом я уверен, – просто почувствовала некоторую растерянность. Но она не стала долго предаваться грусти, а начала работать что есть силы. И это я могу засвидетельствовать лично, поскольку своими глазами видел ее оценки по всем предметам. На выпускных экзаменах знаменитой монастырской школы, что находится рядом с Фонтенбло в Париже, Бернадетт получила высшие оценки. Сейчас, когда они с Клэем стали моими друзьями, я мог бы выразить ей свое восхищение. Та Бернадетт, блестяще окончившая монастырскую школу, могла бы постоять за себя.
Монастырь дал восемнадцатилетней Бернадетт рекомендацию на должность библиотекаря в одной из парижских библиотек, и она поступила на вечернее отделение исторического факультета университета. Красота ее, казалось, достигла совершенства. Ее огромные прекрасные глаза с изумлением взирали на суету и многоцветье Парижа так, будто впервые видели этот большой город. И не только Париж, но и весь мир, казалось, впервые открылся перед ней. У нее был низкий голос с легкой хрипотцой, гармонично сочетавшийся с пухлыми губами и грустной улыбкой, в ее мягкой, чувственной походке ощущался свой ритм – уверенный и целеустремленный. Эта уверенность, по-моему, была напускной, но производила на мужчин неотразимое впечатление.

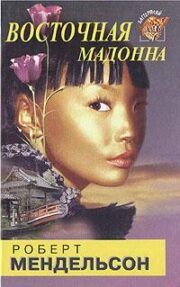
"Восточная мадонна" отзывы
Отзывы читателей о книге "Восточная мадонна". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Восточная мадонна" друзьям в соцсетях.