И лишь потрясённый взгляд добряка вернул меня к действительности…
А!.. Вот и моя верная летучая мышь! Каждый вечер я сижу на этом камне, и каждый вечер она пролетает всё ниже и ниже, почти касаясь моих волос… Она ныряет, пронзительно скрипит, снова взлетает, цепляется за что-то невидимое, а когда я встаю, чтобы разглядеть её, – касается моего плеча.
Выгнутая спинка трётся о мои ноги, то уйдёт, то вернётся и снова приласкается… Где-то у самой земли раздаётся ласковое урчание и оборачивается толстой полосатой кошкой – это вечернее приветствие Перонель… Кажется, что сейчас легко разглядеть её самоё под негустой, почти прозрачной в сумерках шубкой, как серую креветку в морской воде… Несущая успокоение ночь сжимает возле меня дружественный круг моих домашних зверей и тех, которых я не вижу, но чьи шаги слышу в темноте: топ-топ – это к нам забрёл ёж, от капусты к розовому кусту, от розы к корзине с очистками… шорох гравия, словно кто-то приволакивает ногу, – это медленная поступь древней жабы, здоровенной, толстой, что живёт под обломками рухнувшей стены. Тоби её боится, а вот задира Перонель нет-нет и царапнет когтистой лапкой бородавчатую спину… На олеандре машет крыльями бражник, прицепившись к цветку развёрнутым хоботком, словно привязанный тонкой медной проволочкой. Он так отчаянно работает крылышками, что кажется прозрачной тенью самого себя… Ушли в прошлое те времена, когда я бы не устояла, схватила бабочку, зажала в руке её трепетный полёт и понесла подальше от лампы, чтобы полюбоваться фосфоресцирующим светом её глаз… Теперь я научилась жалеть, я хочу, чтобы растения и доверчивые звери жили вокруг меня на свободе…
Далёкий автомобильный гудок нарушает нашу тишину, Тоби-Пёс и Перонель поднимают уши… Я успокаиваю их: «Они уехали…» Да, конечно, уехали! Марта сейчас вещает из-под густой вуали. Она пожимает круглыми плечами: «Ох уж мне это великое горе! Вы только посмотрите на Клодину!.. Она и думать о нём забыла, цветёт и пахнет… У деревни свои прелести… Встречается с каким-нибудь втихаря…» Анни протестует, чувствуя с возмущением, как и у неё закрадывается подозрение, она возмущена, но готова понять и простить, как роднящую меня с ней, мою слабость… Подозрение проникает в неё вместе со сгущающейся темнотой, и она находит в нём удовольствие, она вспоминает, как холодно говорила я о могиле Рено, и ищет в моём саду среди буйной зелени без цветов гибкий силуэт юного садовника… «Свежая плоть… Упаси вас судьба, Клодина, от самого страшного искушения!..»– так она говорила…
А я не боюсь никого, даже самоё себя! Искушение, говорите? И его я знаю. Я с ним живу, оно стало привычным и безопасным. Моё искушение – солнечные лучи, в которых я купаюсь, смертельный холод ночи, падающий на мои удивлённые плечи, мучительная жажда, заставляющая бежать бегом к тёмной глади воды, где мои губы встречаются со своим отражением, страшный, нетерпеливый голод…
Что же до другого искушения, искушения плотью, молодой ли, не очень… И это может случиться, я жду. Не так уж оно страшно, желание без любви. Его можно сдержать, приструнить, и оно рассеется… Нет, не боюсь. Я не ребёнок, которого оно может застать врасплох, и не старая дева, вспыхивающая при одном лишь его приближении… Я заставлю бороться с этим примитивным противником все неистраченные силы, спокойно дремлющие в моих жилах. И, одержав очередную победу, буду призывать в свидетели того, кто невидимо стоит за моей спиной, облокотившись на камень, кого я вижу не поворачивая головы, – я буду говорить ему: «Видишь, как просто?..»
Ночь опускается, скоро она совсем заполнит собой сад – на солнце его жирная зелень кажется тёмной. К моим ноздрям поднимается влажный запах земли: пахнет грибами, ванилью и апельсином… словно распускается в темноте невидимая трепетно-белая гардения, это аромат самой истекающей росой ночи… Это долетает до меня через решётку и поросшую мхом улочку дыхание лесов, среди которых я родилась, которые приняли меня назад. Теперь я вновь принадлежу им – ни их удушливая тишина, ни шорох под дождём не встревожат больше того, кто, как чужестранец, входил за мной следом под их кроны, быстро уставал, испытывал тревогу под крышей из листьев и стремился к опушке, открытому пространству, горизонту, где ветер гнал облака… Я люблю их в одиночку, и они хранят меня, одинокую. И всё же стоит эху, оттолкнувшись от упругой усеянной рыжими сосновыми иглами земли, удвоить звук шагов, и я невольно начинаю ступать реже и намеренно не оборачиваюсь… может, это Он идёт следом и раздвигает, протягивая руки, ветви деревьев, расчищая мне путь…
Как дорога мне боль, поселившаяся тёмной, с переливами, бесценной тенью в моём сердце, выстлавшей его бархатом. На нём оставляют стёжки своей недолговечной вышивки мирные заботы, скромные повседневные радости. Рено нет, но – пусть Анни упрекает меня, а Марта смеётся – маленький пёс, к которому я без конца обращаюсь, всё так же невинно ждёт миску с едой, воду, прогулку, домашняя кошка играет с подолом моего траурного платья, а растения в саду – нежный народец – чахнут и умирают, если я лишаю их своих забот… А как больно – но и как отрадно! – почувствовать вдруг с наступлением ранней, дрожащей от холода, немощи и надежды весны, что ничего не изменилось: ни запах земли, ни трепет ручья, ни форма – словно бутоны роз – почек каштана… Наклониться в изумлении над крохотным резным колокольчиком дикой анемоны, над ковром бесчисленных фиалок – так фиолетовые они или синие? – взглянуть с радостью на незабываемый силуэт гор, испить неуверенными глотками крепкого вина весеннего солнца – и оживать! Оживать сначала немного стыдливо, потом уверенней, вновь обретать силу, находить тень исчезнувшего во всём, что есть незыблемого, неизбежного, независимого от нашей воли и божественного – в течении времени, смене времён года…
Вот уже две зимы я греюсь возле очага со своими зверюшками, со своими книгами, с коричневым горшочком, где варятся каштаны, рядом с креслом – на его подлокотниках лежали когда-то руки Рено… Вот уже две весны мой тёмный дом распахивается в сад, расцвеченный красными почками и бледными ирисами на высоченных стеблях… Солнце выманивает меня на улицу, ливень и снег властно загоняют под крышу… Однако не я ли сама повелеваю тучам, вздохнув в изнеможении от жары, пролиться внезапным дождём или солнцу, оторвав взгляд от книги и дорогого портрета, – снова сверкнуть, ласточке – резать крыльями воздух, крокусам и белым сливам без листьев – распускать цветы?..
Дрожащий пёсик, что прижался к моим коленям, возвращает меня к действительности, и я понимаю, что забыла о времени. Уже совсем темно… Я пропустила ужин, скоро пора ложиться… пошли, зверюшки мои! Терпеливые существа, не решающиеся нарушить мои мечтания! Вы проголодались. Пойдёмте вместе к вселяющей в вас уверенность лампе. Мы с вами одни навеки. Пошли! Оставим открытой дверь, пусть заходит ночь с ароматом незримой гардении, и летучая мышь – пусть повиснет на муслиновых занавесках, и смиренная жаба – пусть забьётся под порог, и тот, кто никогда не покинет меня, кто будет рядом до конца моих дней, ради кого я держу глаза закрытыми, даже когда не сплю, – так мне легче разглядеть его…

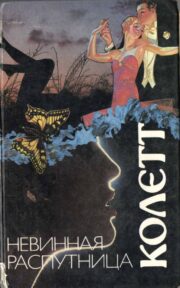
"Возвращение к себе" отзывы
Отзывы читателей о книге "Возвращение к себе". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Возвращение к себе" друзьям в соцсетях.